Текст книги "Структура научных революций". Реферат кун томас структура научных революций
Читать книгу Структура научных революций Томаса Куна : онлайн чтение
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Томас КунСтруктура научных революций
Thomas S. Kuhn
THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC REVOLUTIONS
Печатается с разрешения издательства The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, U.S.A.
© The University of Chicago, 1962, 1970
© Перевод. И.З. Налетов, 1974
© ООО Издательство «АСТ МОСКВА», 2009
Предисловие
Предлагаемая работа является первым полностью публикуемым исследованием, написанным в соответствии с планом, который начал вырисовываться передо мной почти 15 лет назад. В то время я был аспирантом, специализировавшимся по теоретической физике, и моя диссертация была близка к завершению. То счастливое обстоятельство, что я с увлечением прослушал пробный университетский курс по физике, читавшийся для неспециалистов, позволило мне впервые получить некоторое представление об истории науки. К моему полному удивлению, это знакомство со старыми научными теориями и самой практикой научного исследования в корне подорвало некоторые из моих основных представлений о природе науки и причинах ее достижений.
Я имею в виду те представления, которые ранее сложились у меня как в процессе научного образования, так и в силу давнего непрофессионального интереса к философии науки. Как бы то ни было, несмотря на их возможную пользу с педагогической точки зрения и их общую достоверность, эти представления ничуть не были похожи на картину науки, вырисовывающуюся в свете исторических исследований. Однако они были и остаются основой для многих дискуссий о науке, и, следовательно, тот факт, что в ряде случаев они не являются правдоподобными, заслуживает, по-видимому, пристального внимания. Результатом всего этого был решительный поворот в моих планах, касающихся научной карьеры, поворот от физики к истории науки, а затем, постепенно, от собственно историко-научных проблем обратно к вопросам более философского плана, которые первоначально и привели меня к истории науки. Если не считать нескольких статей, настоящий очерк является первой из моих опубликованных работ, в которых доминируют именно эти вопросы, занимавшие меня на ранних этапах работы. До некоторой степени он представляет собой попытку объяснить самому себе и коллегам, как случилось, что мои интересы сместились от науки как таковой к ее истории в первую очередь.
Первая возможность углубиться в разработку некоторых из тех идей, которые изложены ниже, представилась мне, когда я в течение трех лет проходил стажировку при Гарвардском университете. Без этого периода свободы переход в новую область научной деятельности был бы для меня куда более трудным, а может быть, даже и невозможным. Часть своего времени в эти годы я посвящал именно изучению истории науки. С особым интересом я продолжал изучать работы А. Койре и впервые обнаружил работы Э. Мейерсона, Е. Мецгер и А. Майер1 Особое влияние на меня оказали работы: А. Кoyré. Etudes Galiléennes, 3 vols. Paris, 1939; Е. Меуегson. Identity and Reality. New York, 1930; H. Metzger. Les doctrines chimiques en France du début du XVII á la fin du XVIII siécle. Paris, 1923; H. Metzger. Newton, Stahl, Boerhaave et la doctrine chimique. Paris, 1930; A. Maier. Die Vorláufer Galileis im 14. Jahrhundert («Studien zur Naturphilosophie der Spätscholastik». Rome, 1949).
[Закрыть].
Эти авторы более отчетливо, чем большинство других современных ученых, показали, что значило мыслить научно в тот период времени, когда каноны научного мышления весьма отличались от современных. Хотя я все больше и больше ставлю под сомнение некоторые из их частных исторических интерпретаций, их работы вместе с книгой А. Лавджоя «Великая цепь бытия» были одним из главных стимулов для формирования моего представления о том, какой может быть история научных идей. В этом отношении более важную роль сыграли только сами тексты первоисточников.
В те годы я потратил, однако, много времени на разработку областей, не имеющих явного отношения к истории науки, но тем не менее, как сейчас выясняется, содержащих ряд проблем, сходных с проблемами истории науки, которые привлекли мое внимание. Сноска, на которую я натолкнулся по чистой случайности, привела меня к экспериментам Ж. Пиаже, с помощью которых он разъяснил как различные типы восприятия на разных стадиях развития ребенка, так и процесс перехода от одного типа к другому2 Особую важность для меня имели два сборника исследований Ж. Пиаже, поскольку они описывали понятия и процессы, которые также непосредственно формируются в истории науки: «The Child’s Conception of Causality». London, 1930; «Les notions de mouvement et de vitesse chez 1’enfant». Paris, 1946.
[Закрыть]. Один из моих коллег предложил мне почитать статьи по психологии восприятия, в особенности по гештальтпсихологии; другой познакомил меня с соображениями Б.Л. Уорфа относительно воздействия языка на представление о мире; У. Куайн открыл для меня философские загадки различия между аналитическими и синтетическими предложениями3 Уже потом статьи Б. Л. Уорфа были собраны Дж. Кэрролом в книге: «Language, Thought, and Reality – Selected Writings of Benjamin Lee Whorf». New York, 1956. У. Куайн выразил свои идеи в статье «Two Dogmas of Empiricism», перепечатанной в его книге: «From a Logical Point of View». Cambridge, Mass., 1953, p. 20–46.
[Закрыть]. В ходе этих случайных занятий, на которые у меня оставалось время от стажировки, мне удалось натолкнуться на почти неизвестную монографию Л. Флека «Возникновение и развитие научного факта» (Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Basel, 1935), которая предвосхитила многие мои собственные идеи. Работа Л. Флека вместе с замечаниями другого стажера, Фрэнсиса X. Саттона, заставила меня осознать, что эти идеи, возможно, следует рассматривать в рамках социологии научного сообщества. Читатели найдут дальше мало ссылок на эти работы и беседы. Но я обязан им очень многим, хотя сейчас нередко уже не могу полностью осознать их влияние.
На последнем году своей стажировки я получил предложение прочитать курс лекций для Института Лоуэлла в Бостоне. Таким образом мне впервые представился случай испытать в студенческой аудитории мои еще не до конца сформировавшиеся представления о науке. Результатом была серия из восьми публичных лекций, прочитанных в марте 1951 года под общим названием «В поисках физической теории» (The Quest for Physical Theory). В следующем году я начал преподавать уже собственно историю науки. Почти 10 лет преподавания дисциплины, которой я ранее никогда систематически не занимался, оставляли мне мало времени для более точного оформления идей, которые и подвели меня когда-то к истории науки. К счастью, однако, эти идеи подспудно служили для меня источником ориентации и своего рода проблемной структурой большей части моего курса. Поэтому я должен благодарить своих студентов за неоценимые уроки как в отношении развития моих собственных взглядов, так и в отношении умения доступно излагать их другим. Те же самые проблемы и та же ориентация придали единство большей части по преимуществу исторических и на первый взгляд очень различных исследований, которые я опубликовал после окончания моей гарвардской стажировки. Несколько из этих работ было посвящено важной роли, которую играют те или иные метафизические идеи в творческом научном исследовании. В других работах исследуется способ, посредством которого экспериментальный базис новой теории воспринимается и ассимилируется приверженцами старой теории, несовместимой с новой. Одновременно во всех исследованиях описывается тот этап развития науки, который ниже я называю «возникновением» новой теории или открытия. Помимо этого, рассматриваются и другие подобного же рода вопросы.
Заключительная стадия настоящего исследования началась с приглашения провести один год (1958/59) в Центре современных исследований в области наук о поведении. Здесь снова я получил возможность сосредоточить все свое внимание на проблемах, обсуждаемых ниже. Но, пожалуй, более важно то, что, проведя один год в обществе, состоявшем главным образом из специалистов в области социальных наук, я неожиданно столкнулся с проблемой различия между их сообществом и сообществом ученых-естественников, среди которых обучался я сам. В особенности я был поражен количеством и степенью открытых разногласий между социологами по поводу правомерности постановки тех или иных научных проблем и методов их решения. Как история науки, так и личные знакомства заставили меня усомниться в том, что естествоиспытатели могут ответить на подобные вопросы более уверенно и более последовательно, чем их коллеги-социологи. Однако, как бы то ни было, практика научных исследований в области астрономии, физики, химии или биологии обычно не дает никакого повода для того, чтобы оспаривать самые основы этих наук, тогда как среди психологов или социологов это встречается сплошь и рядом. Попытки найти источник этого различия привели меня к осознанию роли в научном исследовании того, что я впоследствии стал называть «парадигмами». Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений. Как только эта часть моих трудностей нашла свое решение, быстро возник первоначальный набросок этой книги.
Нет необходимости рассказывать здесь всю последующую историю работы над этим первоначальным наброском. Несколько слов следует лишь сказать о его форме, которую он сохранил после всех переработок. Еще до того, как первый вариант был закончен и в значительной степени исправлен, я предполагал, что рукопись выйдет в свет как том в серии «Унифицированная энциклопедия наук». Редакторы этой первой работы сначала стимулировали мои исследования, затем следили за их выполнением согласно программе и, наконец, с необычайным тактом и терпением ждали результата. Я многим обязан им, особенно Ч. Моррису за то, что он постоянно побуждал меня к работе над рукописью, и за полезные советы. Однако рамки «Энциклопедии» вынуждали излагать мои взгляды в весьма сжатой и схематичной форме. Хотя последующий ход событий в известной степени смягчил эти ограничения и представилась возможность одновременной публикации самостоятельного издания, эта работа остается все же скорее очерком, чем полноценной книгой, которую в конечном счете требует данная тема.
Поскольку основная цель для меня заключается в том, чтобы добиться изменения в восприятии и оценке хорошо известных всем фактов, постольку схематический характер этого первого труда не должен вызывать порицания. Напротив, читатели, подготовленные собственными исследованиями к такого рода изменению ориентации, необходимость которой я отстаиваю в своей работе, возможно, найдут ее форму и в большей мере наводящей на размышления, и более легкой для восприятия. Но форма краткого очерка имеет также и недостатки, и они могут оправдать то, что я в самом начале показываю некоторые возможные пути к расширению границ и углублению исследования, которые я надеюсь использовать в дальнейшем. Можно было бы привести гораздо больше исторических фактов, чем те, которые я упоминаю в книге. Кроме того, из истории биологии можно подобрать не меньше фактических данных, чем из истории физических наук. Мое решение ограничиться здесь исключительно последними продиктовано частично желанием достигнуть наибольшей связности текста, частично стремлением не выходить за рамки своей компетенции. Кроме того, представление о науке, которое должно быть здесь развито, предполагает потенциальную плодотворность множества новых видов как исторических, так и социологических исследований. Например, вопрос о том, каким образом аномалии в науке и отклонения от ожидаемых результатов все более привлекают внимание научного сообщества, требует детального изучения, так же, как и возникновение кризисов, которые могут быть вызваны неоднократными неудачными попытками преодолеть аномалию. Если я прав в том, что каждая научная революция меняет историческую перспективу для сообщества, которое переживает эту революцию, то такое изменение перспективы должно влиять на структуру учебников и исследовательских публикаций после этой научной революции. Одно такое следствие – а именно изменение в цитировании специальной литературы в научно-исследовательских публикациях, – вероятно, необходимо рассматривать как возможный симптом научных революций.
Необходимость крайне сжатого изложения вынуждала меня также отказаться от обсуждения ряда важных проблем. Например, мое различение допарадигмальных и постпарадигмальных периодов в развитии науки слишком схематично. Каждая из школ, конкуренция между которыми характерна для более раннего периода, руководствуется чем-то весьма напоминающим парадигму; бывают обстоятельства (хотя, как я думаю, довольно редко), при которых две парадигмы могут мирно сосуществовать в более поздний период. Одно лишь обладание парадигмой нельзя считать вполне достаточным критерием того переходного периода в развитии, который рассматривается во II разделе. Более важно то, что я ничего не сказал, если не считать коротких и немногочисленных отступлений, о роли технического прогресса или внешних социальных, экономических и интеллектуальных условий в развитии наук. Достаточно, однако, обратиться к Копернику и к способам составления календарей, чтобы убедиться в том, что внешние условия могут способствовать превращению простой аномалии в источник острого кризиса. На том же самом примере можно было бы показать, каким образом условия, внешние по отношению к науке, могут оказать влияние на ряд альтернатив, которые имеются в распоряжении ученого, стремящегося преодолеть кризис путем предложения той или иной революционной реконструкции знания4 Эти факторы рассматриваются в книге: Т.S. Кuhn. The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Development of Western Thought. Cambridge, Mass., 1957, p. 122–132, 270–271. Другие воздействия внешних интеллектуальных и экономических условий на собственно научное развитие иллюстрируются в моих статьях: «Conservation of Energy as an Example of Simultaneous Discovery». – «Critical Problems in the History of Science», ed. M. Clagett. Madison, Wis., 1959, p. 321–356; «Engineering Precedent for the Work of Sadi Carnot». – «Archives internationales d’histoire des sciences», XIII (1960), p. 247–251; «Sadi Carnot and the Cagnard Engine». – «Isis», LII (1961), p. 567–574. Следовательно, я считаю роль внешних факторов минимальной лишь в отношении проблем, обсуждаемых в этом очерке.
[Закрыть]. Подробное рассмотрение такого рода следствий научной революции не изменило бы, я думаю, главных положений, развитых в данной работе, но оно наверняка добавило бы аналитический аспект, имеющий первостепенное значение для понимания прогресса науки.
Наконец (и возможно, что это самое важное), ограничения, связанные с недостатком места, помешали вскрыть философское значение того исторически ориентированного образа науки, который вырисовывается в настоящем очерке. Несомненно, что этот образ имеет скрытый философский смысл, и я постарался по возможности указать на него и вычленить его основные аспекты. Правда, поступая таким образом, я обычно воздерживался от подробного рассмотрения различных позиций, на которых стоят современные философы при обсуждении соответствующих проблем. Мой скептицизм, там, где он проявляется, относится скорее к философской позиции вообще, чем к какому-либо из четко развитых направлений в философии. Поэтому у некоторых из тех, кто хорошо знает одно из этих направлений и работает в его рамках, может сложиться впечатление, что я упустил из виду их точку зрения. Думаю, что они будут не правы, но эта работа не рассчитана на то, чтобы переубедить их. Чтобы попытаться это сделать, нужно было бы написать книгу более внушительного объема и вообще совсем иную.
Я начал это предисловие с некоторых автобиографических сведений с целью показать, чем я более всего обязан как работам ученых, так и организациям, которые способствовали формированию моего мышления. Остальные пункты, по которым я тоже считаю себя должником, я постараюсь отразить в настоящей работе путем цитирования. Но все это может дать только слабое представление о той глубокой личной признательности множеству людей, которые когда-либо советом или критикой поддерживали или направляли мое интеллектуальное развитие. Прошло слишком много времени с тех пор, как идеи данной книги начали приобретать более или менее отчетливую форму. Список всех тех, кто мог бы обнаружить в этой работе печать своего влияния, почти совпадал бы с кругом моих друзей и знакомых. Учитывая эти обстоятельства, я вынужден упомянуть лишь о тех, чье влияние столь значительно, что его нельзя упустить из виду даже при плохой памяти.
Я должен назвать Джеймса В. Конанта, бывшего в то время ректором Гарвардского университета, который первый ввел меня в историю науки и таким образом положил начало перестройке моих представлений о природе научного прогресса. Уже с самого начала он щедро делился идеями, критическими замечаниями и не жалел времени, чтобы прочитать первоначальный вариант моей рукописи и предложить важные изменения. Еще более активным собеседником и критиком в продолжение тех лет, когда мои идеи начали вырисовываться, был Леонард К. Неш, с которым я в течение 5 лет совместно вел основанный д-ром Конантом курс по истории науки. На более поздних стадиях развития моих идей мне очень не хватало поддержки Л.К. Неша. К счастью, однако, после моего ухода из Кембриджа его роль стимулятора творческих поисков взял на себя мой коллега из Беркли Стэнли Кейвелл. Кейвелл, философ, который интересовался главным образом этикой и эстетикой и пришел к выводам, во многом совпадающим с моими собственными, был для меня постоянным источником стимулирования и поощрения. Более того, он был единственным человеком, который понимал меня с полуслова. Подобный способ общения свидетельствует о таком понимании, которое давало Кейвеллу возможность указать мне путь, на котором я мог бы миновать или обойти многие препятствия, встретившиеся в процессе подготовки первого варианта моей рукописи.
После того как первоначальный текст работы был написан, многие другие мои друзья помогли мне в его доработке. Они, я думаю, простят меня, если я назову из них только четверых, чье участие было наиболее значительным и решающим: П. Фейерабенд из Калифорнийского университета, Э. Нагель из Колумбийского университета, Г.Р. Нойес из Радиационной лаборатории Лоуренса и мой студент Дж. Л. Хейльброн, который часто работал непосредственно со мной в процессе подготовки окончательного варианта для печати. Я нахожу, что все их замечания и советы чрезвычайно полезны, но у меня нет основания думать (скорее есть некоторые причины сомневаться), что все, кого я упомянул выше, полностью одобряли рукопись в ее окончательном виде.
Наконец, моя признательность моим родителям, жене и детям существенно иного рода. Разными путями каждый из них также вложил частицу своего интеллекта в мою работу (причем так, что как раз мне труднее всего это оценить). Однако они также в различной степени сделали нечто еще более важное. Они не только одобряли меня, когда я начал работу, но и постоянно поощряли мое увлечение ею. Все, кто боролся за осуществление замысла подобных масштабов, сознают, каких усилий это стоит. Я не нахожу слов, чтобы выразить им свою благодарность.
Беркли, Калифорния
февраль, 1962
Т. С. К.
IВведение. Роль истории
История, если ее рассматривать не просто как хранилище анекдотов и фактов, расположенных в хронологическом порядке, могла бы стать основой для решительной перестройки тех представлений о науке, которые сложились у нас к настоящему времени. Представления эти возникли (даже у самих ученых) главным образом на основе изучения готовых научных достижений, содержащихся в классических трудах или позднее в учебниках, по которым каждое новое поколение научных работников обучается практике своего дела. Но целью подобных книг по самому их назначению является убедительное и доступное изложение материала. Понятие науки, выведенное из них, вероятно, соответствует действительной практике научного исследования не более, чем сведения, почерпнутые из рекламных проспектов для туристов или из языковых учебников, соответствуют реальному образу национальной культуры. В предлагаемом очерке делается попытка показать, что подобные представления о науке уводят в сторону от ее магистральных путей. Его цель состоит в том, чтобы обрисовать хотя бы схематически совершенно иную концепцию науки, которая вырисовывается из исторического подхода к исследованию самой научной деятельности.
Однако даже из изучения истории новая концепция не возникнет, если продолжать поиск и анализ исторических данных главным образом для того, чтобы ответить на вопросы, поставленные в рамках антиисторического стереотипа, сформировавшегося на основе классических трудов и учебников. Например, из этих трудов часто напрашивается вывод, что содержание науки представлено только описываемыми на их страницах наблюдениями, законами и теориями. Как правило, вышеупомянутые книги понимаются таким образом, как будто научные методы просто совпадают с методикой подбора данных для учебника и с логическими операциями, используемыми для связывания этих данных с теоретическими обобщениями учебника. В результате возникает такая концепция науки, в которой содержится значительная доля домыслов и предвзятых представлений относительно ее природы и развития.
Если науку рассматривать как совокупность фактов, теорий и методов, собранных в находящихся в обращении учебниках, то в таком случае ученые – это люди, которые более или менее успешно вносят свою лепту в создание этой совокупности. Развитие науки при таком подходе – это постепенный процесс, в котором факты, теории и методы слагаются во все возрастающий запас достижений, представляющий собой научную методологию и знание. История науки становится при этом такой дисциплиной, которая фиксирует как этот последовательный прирост, так и трудности, которые препятствовали накоплению знания. Отсюда следует, что историк, интересующийся развитием науки, ставит перед собой две главные задачи. С одной стороны, он должен определить, кто и когда открыл или изобрел каждый научный факт, закон и теорию. С другой стороны, он должен описать и объяснить наличие массы ошибок, мифов и предрассудков, которые препятствовали скорейшему накоплению составных частей современного научного знания. Многие исследования так и осуществлялись, а некоторые и до сих пор преследуют эти цели.
Однако в последние годы некоторым историкам науки становится все более и более трудным выполнять те функции, которые им предписывает концепция развития науки через накопление. Взяв на себя роль регистраторов накопления научного знания, они обнаруживают, что чем дальше продвигается исследование, тем труднее, а отнюдь не легче бывает ответить на некоторые вопросы, например о том, когда был открыт кислород или кто первый обнаружил сохранение энергии. Постепенно у некоторых из них усиливается подозрение, что такие вопросы просто неверно сформулированы и развитие науки – это, возможно, вовсе не простое накопление отдельных открытий и изобретений. В то же время этим историкам все труднее становится отличать «научное» содержание прошлых наблюдений и убеждений от того, что их предшественники с готовностью называли «ошибкой» и «предрассудком». Чем более глубоко они изучают, скажем, аристотелевскую динамику или химию и термодинамику эпохи флогистонной теории, тем более отчетливо чувствуют, что эти некогда общепринятые концепции природы не были в целом ни менее научными, ни более субъективистскими, чем сложившиеся в настоящее время. Если эти устаревшие концепции следует назвать мифами, то оказывается, что источником последних могут быть те же самые методы, а причины их существования оказываются такими же, как и те, с помощью которых в наши дни достигается научное знание. Если, с другой стороны, их следует называть научными, тогда оказывается, что наука включала в себя элементы концепций, совершенно несовместимых с теми, которые она содержит в настоящее время. Если эти альтернативы неизбежны, то историк должен выбрать последнюю из них. Устаревшие теории нельзя в принципе считать ненаучными только на том основании, что они были отброшены. Но в таком случае едва ли можно рассматривать научное развитие как простой прирост знания. То же историческое исследование, которое вскрывает трудности в определении авторства открытий и изобретений, одновременно дает почву глубоким сомнениям относительно того процесса накопления знаний, посредством которого, как думали раньше, синтезируются все индивидуальные вклады в науку.
Результатом всех этих сомнений и трудностей является начинающаяся сейчас революция в историографии науки. Постепенно, и часто до конца не осознавая этого, историки науки начали ставить вопросы иного плана и прослеживать другие направления в развитии науки, причем эти направления часто отклоняются от кумулятивной модели развития. Они не столько стремятся отыскать в прежней науке непреходящие элементы, которые сохранились до современности, сколько пытаются вскрыть историческую целостность этой науки в тот период, когда она существовала. Их интересует, например, не вопрос об отношении воззрений Галилея к современным научным положениям, а скорее отношение между его идеями и идеями его научного сообщества, то есть идеями его учителей, современников и непосредственных преемников в истории науки. Более того, они настаивают на изучении мнений этого и других подобных сообществ с точки зрения (обычно весьма отличающейся от точки зрения современной науки), признающей за этими воззрениями максимальную внутреннюю согласованность и максимальную возможность соответствия природе. Наука в свете работ, порождаемых этой новой точкой зрения (их лучшим примером могут послужить сочинения Александра Койре), предстает как нечто совершенно иное, нежели та схема, которая рассматривалась учеными с позиций старой историографической традиции. Во всяком случае, эти исторические исследования наводят на мысль о возможности нового образа науки. Данный очерк преследует цель охарактеризовать хотя бы схематично этот образ, выявляя некоторые предпосылки новой историографии.
Какие аспекты науки выдвинутся на первый план в результате этих усилий? Во-первых, хотя бы в предварительном порядке, следует указать на то, что для многих разновидностей научных проблем недостаточно одних методологических директив самих по себе, чтобы прийти к однозначному и доказательному выводу. Если заставить исследовать электрические или химические явления человека, не знающего этих областей, но знающего, что такое «научный метод» вообще, то он может, рассуждая вполне логически, прийти к любому из множества несовместимых между собой выводов. К какому именно из этих логичных выводов он придет, по всей вероятности, будет определено его прежним опытом в других областях, которые ему приходилось исследовать ранее, а также его собственным индивидуальным складом ума. Например, какие представления о звездах он использует для изучения химии или электрических явлений? Какие именно из многочисленных экспериментов, возможных в новой для него области, он предпочтет выполнить в первую очередь? И какие именно аспекты сложной картины, которая выявится в результате этих экспериментов, будут производить на него впечатление особенно перспективных для выяснения природы химических превращений или сил электрических взаимодействий? Для отдельного ученого по крайней мере, а иногда точно так же и для научного сообщества, ответы на подобные вопросы часто весьма существенно определяют развитие науки. Например, во II разделе мы обратим внимание на то, что ранние стадии развития большинства наук характеризуются постоянным соперничеством между множеством различных представлений о природе. При этом каждое представление в той или иной мере выводится из данных научного наблюдения и предписаний научного метода, и все представления хотя бы в общих чертах не противоречат этим данным. Различаются же между собой школы не отдельными частными недостатками используемых методов (все они были вполне «научными»), а тем, что мы будем называть несоизмеримостью способов видения мира и практики научного исследования в этом мире. Наблюдение и опыт могут и должны резко ограничить контуры той области, в которой научное рассуждение имеет силу, иначе науки как таковой не будет. Но сами по себе наблюдения и опыт еще не могут определить специфического содержания науки. Формообразующим ингредиентом убеждений, которых придерживается данное научное сообщество в данное время, всегда являются личные и исторические факторы – элемент по видимости случайный и произвольный.
Наличие этого элемента произвольности не указывает, однако, на то, что любое научное сообщество могло бы заниматься своей деятельностью без некоторой системы общепринятых представлений. Не умаляет он и роли той совокупности фактического материала, на которой основана деятельность сообщества. Едва ли любое эффективное исследование может быть начато прежде, чем научное сообщество решит, что располагает обоснованными ответами на вопросы, подобные следующим: каковы фундаментальные сущности, из которых состоит универсум? Как они взаимодействуют друг с другом и с органами чувств? Какие вопросы ученый имеет право ставить в отношении таких сущностей и какие методы могут быть использованы для их решения? По крайней мере в развитых науках ответы (или то, что полностью заменяет их) на вопросы, подобные этим, прочно закладываются в процессе обучения, которое готовит студентов к профессиональной деятельности и дает право участвовать в ней. Рамки этого обучения строги и жестки, и поэтому ответы на указанные вопросы оставляют глубокий отпечаток на научном мышлении индивидуума. Это обстоятельство необходимо серьезно учитывать при рассмотрении особой эффективности нормальной научной деятельности и при определении направления, по которому она следует в данное время. Рассматривая в III, IV, V разделах нормальную науку, мы поставим перед собой цель в конечном счете описать исследование как упорную и настойчивую попытку навязать природе те концептуальные рамки, которые дало профессиональное образование. В то же время нас будет интересовать вопрос, может ли научное исследование обойтись без таких рамок, независимо от того, какой элемент произвольности присутствует в их исторических источниках, а иногда и в их последующем развитии.
Однако этот элемент произвольности имеет место и оказывает существенное воздействие на развитие науки, которое будет детально рассмотрено в VI, VII и VIII разделах. Нормальная наука, на развитие которой вынуждено тратить почти все свое время большинство ученых, основывается на допущении, что научное сообщество знает, каков окружающий нас мир. Многие успехи науки рождаются из стремления сообщества защитить это допущение, и если это необходимо – то и весьма дорогой ценой. Нормальная наука, например, часто подавляет фундаментальные новшества, потому что они неизбежно разрушают ее основные установки. Тем не менее до тех пор, пока эти установки сохраняют в себе элемент произвольности, сама природа нормального исследования дает гарантию, что эти новшества не будут подавляться слишком долго. Иногда проблема нормальной науки, проблема, которая должна быть решена с помощью известных правил и процедур, не поддается неоднократным натискам даже самых талантливых членов группы, к компетенции которой она относится. В других случаях инструмент, предназначенный и сконструированный для целей нормального исследования, оказывается неспособным функционировать так, как это предусматривалось, что свидетельствует об аномалии, которую, несмотря на все усилия, не удается согласовать с нормами профессионального образования. Таким образом (и не только таким) нормальная наука сбивается с дороги все время. И когда это происходит – то есть когда специалист не может больше избежать аномалий, разрушающих существующую традицию научной практики, – начинаются нетрадиционные исследования, которые в конце концов приводят всю данную отрасль науки к новой системе предписаний (commitments), к новому базису для практики научных исследований. Исключительные ситуации, в которых возникает эта смена профессиональных предписаний, будут рассматриваться в данной работе как научные революции. Они являются дополнениями к связанной традициями деятельности в период нормальной науки, которые разрушают традиции.
iknigi.net
Томас Кун - Структура научных революций
Т. Кун
Логика и методология науки
СТРУКТУРА НАУЧНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ
Предлагаемая работа является первым полностью публикуемым исследованием, написанным в соответствии с планом, который начал вырисовываться передо мной почти 15 лет назад. В то время я был аспирантом, специализировавшимся по теоретической физике, и моя диссертация была близка к завершению. То счастливое обстоятельство, что я с увлечением прослушал пробный университетский курс по физике, читавшийся для неспециалистов, позволило мне впервые получить некоторое представление об истории науки. К моему полному удивлению, это знакомство со старыми научными теориями и самой практикой научного исследования в корне подорвало некоторые из моих основных представлений о природе науки и причинах её достижений.
Я имею в виду те представления, которые ранее сложились у меня как в процессе научного образования, так и в силу давнего непрофессионального интереса к философии науки. Как бы то ни было, несмотря на их возможную пользу с педагогической точки зрения и их общую достоверность, эти представления ничуть не были похожи на картину науки, вырисовывающуюся в свете исторических исследований. Однако они были и остаются основой для многих дискуссий о науке, и, следовательно, тот факт, что в ряде случаев они не являются правдоподобными, заслуживает, по-видимому, пристального внимания. Результатом всего этого был решительный поворот в моих планах, касающихся научной карьеры, поворот от физики к истории науки, а затем, постепенно, от собственно историко-научных проблем обратно к вопросам более философского плана, которые первоначально и привели меня к истории науки. Если не считать нескольких статей, настоящий очерк является первой из моих опубликованных работ, в которых доминируют именно эти вопросы, занимавшие меня на ранних этапах работы. До некоторой степени он представляет собой попытку объяснить самому себе и коллегам, как случилось, что мои интересы сместились от науки как таковой к её истории в первую очередь.
Первая возможность углубиться в разработку некоторых из тех идей, которые изложены ниже, представилась мне, когда я в течение трёх лет проходил стажировку при Гарвардском университете. Без этого периода свободы переход в новую область научной деятельности был бы для меня куда более трудным, а может быть, даже и невозможным. Часть своего времени в эти годы я посвящал именно изучению истории науки. С особым интересом я продолжал изучать работы А. Койре и впервые обнаружил работы Э. Мейерсона, Е. Мецгер и А. Майер[1].
Эти авторы более отчётливо, чем большинство других современных учёных, показали, что значило мыслить научно в тот период времени, когда каноны научного мышления весьма отличались от современных. Хотя я всё больше и больше ставлю под сомнение некоторые из их частных исторических интерпретаций, их работы вместе с книгой А. Лавджоя «Великая цепь бытия» были одним из главных стимулов для формирования моего представления о том, какой может быть история научных идей. В этом отношении более важную роль сыграли только сами тексты первоисточников.
В те годы я потратил, однако, много времени на разработку областей, не имеющих явного отношения к истории науки, но тем не менее, как сейчас выясняется, содержащих ряд проблем, сходных с проблемами истории науки, которые привлекли моё внимание. Сноска, на которую я натолкнулся по чистой случайности, привела меня к экспериментам Ж. Пиаже, с помощью которых он разъяснил как различные типы восприятия на разных стадиях развития ребёнка, так и процесс перехода от одного типа к другому[2]. Один из моих коллег предложил мне почитать статьи по психологии восприятия, в особенности по гештальтпсихологии; другой познакомил меня с соображениями Б. Л. Уорфа относительно воздействия языка на представление о мире; У. Куайн открыл для меня философские загадки различия между аналитическими и синтетическими предложениями[3]. В ходе этих случайных занятий, на которые у меня оставалось время от стажировки, мне удалось натолкнуться на почти неизвестную монографию Л. Флека «Возникновение и развитие научного факта» (Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Basel, 1935), которая предвосхитила многие мои собственные идеи. Работа Л. Флека вместе с замечаниями другого стажёра, Фрэнсиса X. Саттона, заставила меня осознать, что эти идеи, возможно, следует рассматривать в рамках социологии научного сообщества. Читатели найдут дальше мало ссылок на эти работы и беседы. Но я обязан им очень многим, хотя сейчас нередко уже не могу полностью осознать их влияние.
На последнем году своей стажировки я получил предложение прочитать курс лекций для Института Лоуэлла в Бостоне. Таким образом мне впервые представился случай испытать в студенческой аудитории мои ещё не до конца сформировавшиеся представления о науке. Результатом была серия из восьми публичных лекций, прочитанных в марте 1951 года под общим названием «В поисках физической теории» (The Quest for Physical Theory). В следующем году я начал преподавать уже собственно историю науки. Почти 10 лет преподавания дисциплины, которой я ранее никогда систематически не занимался, оставляли мне мало времени для более точного оформления идей, которые и подвели меня когда-то к истории науки. К счастью, однако, эти идеи подспудно служили для меня источником ориентации и своего рода проблемной структурой большей части моего курса. Поэтому я должен благодарить своих студентов за неоценимые уроки как в отношении развития моих собственных взглядов, так и в отношении умения доступно излагать их другим. Те же самые проблемы и та же ориентация придали единство большей части по преимуществу исторических и на первый взгляд очень различных исследований, которые я опубликовал после окончания моей гарвардской стажировки. Несколько из этих работ было посвящено важной роли, которую играют те или иные метафизические идеи в творческом научном исследовании. В других работах исследуется способ, посредством которого экспериментальный базис новой теории воспринимается и ассимилируется приверженцами старой теории, несовместимой с новой. Одновременно во всех исследованиях описывается тот этап развития науки, который ниже я называю «возникновением» новой теории или открытия. Помимо этого, рассматриваются и другие подобного же рода вопросы.
Заключительная стадия настоящего исследования началась с приглашения провести один год (1958/59) в Центре современных исследований в области наук о поведении. Здесь снова я получил возможность сосредоточить всё своё внимание на проблемах, обсуждаемых ниже. Но, пожалуй, более важно то, что, проведя один год в обществе, состоявшем главным образом из специалистов в области социальных наук, я неожиданно столкнулся с проблемой различия между их сообществом и сообществом учёных-естественников, среди которых обучался я сам. В особенности я был поражён количеством и степенью открытых разногласий между социологами по поводу правомерности постановки тех или иных научных проблем и методов их решения. Как история науки, так и личные знакомства заставили меня усомниться в том, что естествоиспытатели могут ответить на подобные вопросы более уверенно и более последовательно, чем их коллеги-социологи. Однако, как бы то ни было, практика научных исследований в области астрономии, физики, химии или биологии обычно не даёт никакого повода для того, чтобы оспаривать самые основы этих наук, тогда как среди психологов или социологов это встречается сплошь и рядом. Попытки найти источник этого различия привели меня к осознанию роли в научном исследовании того, что я впоследствии стал называть «парадигмами». Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение определённого времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений. Как только эта часть моих трудностей нашла своё решение, быстро возник первоначальный набросок этой книги.
Нет необходимости рассказывать здесь всю последующую историю работы над этим первоначальным наброском. Несколько слов следует лишь сказать о его форме, которую он сохранил после всех переработок. Ещё до того, как первый вариант был закончен и в значительной степени исправлен, я предполагал, что рукопись выйдет в свет как том в серии «Унифицированная энциклопедия наук». Редакторы этой первой работы сначала стимулировали мои исследования, затем следили за их выполнением согласно программе и, наконец, с необычайным тактом и терпением ждали результата. Я многим обязан им, особенно Ч. Моррису, за то, что он постоянно побуждал меня к работе над рукописью, и за полезные советы. Однако рамки «Энциклопедии» вынуждали излагать мои взгляды в весьма сжатой и схематичной форме. Хотя последующий ход событий в известной степени смягчил эти ограничения и представилась возможность одновременной публикации самостоятельного издания, эта работа остаётся всё же скорее очерком, чем полноценной книгой, которую в конечном счёте требует данная тема.
Конец ознакомительного отрывкаПОНРАВИЛАСЬ КНИГА?
 Эта книга стоит меньше чем чашка кофе!
Эта книга стоит меньше чем чашка кофе!СКИДКА ДО 25% ТОЛЬКО СЕГОДНЯ!
Хотите узнать цену?ДА, ХОЧУ www.libfox.ru
Реферат Кун, Томас Сэмюэл
; 18 июля 1922, Цинциннати, Огайо — 17 июня 1996, Кембридж, Массачусетс) — американский историк и философ науки, считавший, что научное знание развивается скачкообразно, посредством научных революций. Любой критерий имеет смысл только в рамках определённой парадигмы, исторически сложившейся системы воззрений. Научная революция — это смена научным сообществом объясняющих парадигм.
1. Биография
Томас Кун родился в Цинциннати, Огайо, в еврейской семье, перебравшейся в Нью-Йорк, когда Томасу было 6 месяцев. Его отец, Сэмюэл Л. Кун, был инженером-гидравликом, выпускником Гарвардского университета и Массачусетского института технологии; мать, Минетт Кун (урожд. Струк), работала редактором.- 1943 — окончил Гарвардский университет и получил степень бакалавра по физике.
- В годы Второй мировой войны был определён для гражданской работы в Бюро научных исследований и развития (the Office of Scientific Research and Development).
- 1946 — в Гарварде получил степень магистра (master’s degree) по физике.
- 1947 — начало формирования основных тезисов: «структура научных революций» и «парадигма».
- 1948—1956 — занимал различные преподавательские должности в Гарварде; преподавал историю науки.
- 1949 — в Гарварде защитил диссертацию по физике.
- 1957 — преподавал в Принстоне.
- 1961 — работал профессором истории науки на кафедре Калифорнийского университета в Беркли.
- 1964—1979 — работал на университетской кафедре в Принстоне, преподавал историю и философию науки.
- 1979—1991 — профессор Массачусетского технологического института.
- 1983—1991 — профессор философии Лоренса С. Рокфеллера в том же институте.
- 1991 — вышел на пенсию.
- 1994 — у Куна был диагностирован рак бронхов.
- 1996 — Томас Кун умер.
Кун был дважды женат. Первый раз на Катерине Мус (с которой у него было трое детей), а затем на Джиэн Бартон.2. Научная деятельность
Наиболее известной работой Томаса Куна считается — «Структура научных революций» (The Structure of Scientific Revolutions, 1962), в которой рассматривается теория о том, что науку следует воспринимать не как постепенно развивающуюся и накапливающую знания по направлению к истине, но как явление, проходящее через периодические революции, называемые в его терминологии «сменами парадигм» (англ. paradigm shift). Изначально «Структура научных революций» была опубликована в виде статьи для «Международной энциклопедии унифицированной науки» («International Encyclopedia for Unified Science»), издаваемой Венским кружком логических позитивистов, или неопозитивистов. Огромное влияние, которое оказало исследование Куна, можно оценить по той революции, которую она спровоцировала даже в тезаурусе истории науки: помимо концепции «смены парадигм», Кун придал более широкое значение слову «парадигма», использовавшемуся в лингвистике, ввёл термин «нормальная наука» для определения относительно рутинной ежедневной работы учёных, действующих в рамках какой-либо парадигмы, и во многом повлиял на использование термина «научные революции» как периодических событий, происходящих в различное время в различных научных дисциплинах, — в отличие от единой «Научной Революции» позднего Ренессанса.Во Франции концепция Куна стала соотноситься с теориями Мишеля Фуко (соотносились термины «парадигма» Куна и «эпистема» Фуко) и Луи Альтюссера, хотя те скорее занимались историческими «условиями возможного» научного дискурса. (В действительности мировоззрение Фуко было сформировано под влиянием теорий Гастона Башляра, который независимо разработал точку зрения на историю развития науки, схожую с кунновской.) В отличие от Куна, рассматривающего различные парадигмы в качестве несопоставимых, по концепции Альтюссера, наука имеет кумулятивную природу, хоть данная кумулятивность и дискретна.
Работа Куна весьма широко используется в социальных науках — например, в постпозитивистско-позитивистской дискуссии в рамках теории международных отношений.
2.1. Этапы научной революции
Ход научной революции по Куну:- нормальная наука — каждое новое открытие поддаётся объяснению с позиций господствующей теории;
- экстраординарная наука. Кризис в науке. Появление аномалий — необъяснимых фактов. Увеличение количества аномалий приводит к появлению альтернативных теорий. В науке сосуществует множество противоборствующих научных школ;
- научная революция — формирование новой парадигмы.
3. Общественная деятельность и награды
Кун был членом Национальной академии наук, Американского философского общества, Американской академии наук и искусств.В 1982 году профессор Кун удостоен медали Джорджа Сартона в области истории науки (the George Sarton Medal in the History of Science).
Имел почётные звания многих научных и учебных заведений, в том числе университета Нотр Дам, Колумбийского и Чикагского университетов, университета Падуи и Афинского университета.
4. Библиография
4.1. На английском языке
- Bird, Alexander. Thomas Kuhn Princeton and London: Princeton University Press and Acumen Press, 2000.
- Fuller, Steve. Thomas Kuhn: A Philosophical History for Our Times (Chicago: University of Chicago Press, 2000.
- Kuhn, T.S. The Copernican Revolution. Cambridge: Harvard University Press, 1957.
- Kuhn, T.S. The Function of Measurement in Modern Physical Science. Isis, 52(1961): 161—193.
- Kuhn, T.S. The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: University of Chicago Press, 1962) ISBN 0-226-45808-3
- Kuhn, T.S. «The Function of Dogma in Scientific Research». pp. 347–69 in A. C. Crombie (ed.). Scientific Change (Symposium on the History of Science, University of Oxford, 9-15 July 1961). New York and London: Basic Books and Heineman, 1963.
- Kuhn, T.S. The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change (1977)
- Kuhn, T.S. Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity, 1894—1912. Chicago: University of Chicago Press, 1987. ISBN 0-226-45800-8
- Kuhn, T.S. The Road Since Structure: Philosophical Essays, 1970—1993. Chicago: University of Chicago Press, 2000. ISBN 0-226-45798-2
4.2. На русском языке
- Структура научных революций (The Structure of Scientific Revolutions).
- Сущностное напряжение (The Essential Tension)
- Теория черного тела и квантовая прерывность, 1894—1912 (Black-Body Theory and Quantum Discontinuity, 1894—1912).
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Кун,_Томас_Сэмюэл
bukvasha.ru
Томас Кун. После «Структуры научных революций»
В своем классическом труде – Структура научных революций – Томас Кун обосновал мысль о том, что история науки не является непрерывной и кумулятивной, она часто прерывается более или менее радикальными «сменами парадигм». Менее известны собственные попытки Куна как можно лучше понять и описать эпизоды в развитии науки, которые связаны с такими важными изменениями. Труды, собранные в этой книге, представляют собой более поздние попытки переосмыслить и расширить его собственные «революционные» гипотезы (на мой взгляд, они слабее первой работы).
Томас Кун. После «Структуры научных революций» – М.: АСТ, 2014. – 448 с.
Скачать конспект (краткое содержание) в формате Word или pdf
Купить цифровую книгу в ЛитРес, бумажную книгу в Ozon или Лабиринте
Глава 1. Что такое научные революции?
Прошло почти двадцать лет с тех пор, как я впервые провел различие между двумя типами развития науки – нормальным и революционным («Структура научных революций» вышла в 1962 г., а цитируемая статья – в 1987). Большая часть успешных научных исследований укладывается в изменение первого типа. Нормальная наука производит материал, который научное исследование добавляет к постоянно возрастающему запасу научного знания. Эта кумулятивная концепция. Однако развитие науки выказывает также признаки некумулятивности, эпизоды некумулятивного развития позволяют по-новому осветить важнейшие стороны научного познания.
Например, иллюстрацией нормального процесса может служить закон Бойля. Открытие того факта, что для конкретного газа при постоянной температуре произведение давления на объем является константой, просто добавило что-то к нашему знанию о том, как ведут себя эти уже ранее известные переменные. Революционные изменения включают в себя открытия, которые нельзя совместить с ранее используемыми понятиями. Чтобы сделать или ассимилировать такое открытие, человек должен изменить сам способ мышления и описания естественных феноменов. Открытие Ньютоном второго закона движения принадлежит к этому типу. Понятия силы и массы, входящие в этот закон, отличаются от похожих понятий, использовавшихся до введения этого закона, и сам закон играет существенную роль в определении этих понятий.
Вторым примером может служить переход от астрономии Птолемея к астрономии Коперника. До этого перехода Солнце и Луна были планетами, а Земля планетой не была. После этого перехода Земля стала планетой, подобно Марсу и Юпитеру, Солнце стало звездой, а Луна превратилась в небесное тело нового вида – спутник. Изменения подобного рода нельзя свести к исправлению чьих-то ошибок, содержащихся в системе Птолемея. Подобно пережду к законам движения Ньютона, они включают в себя изменения не только в законах природы, но также и в критериях, согласно которым термины, входящие в эти законы, применяются к природе. Более того, сами эти критерии частично зависят от теории, вместе с которой они вводятся.
При нормальном изменении что-то исправляют или добавляют какое-то обобщение, а остальное остается тем же самым. При революционном изменении приходится либо мириться с противоречиями, либо сразу исправлять значительное число взаимосвязанных обобщений. Если бы эти изменения вводились по одному, то не было бы промежуточных остановок. Только первоначальное и финальное множества обобщений дают непротиворечивое истолкование природы. В случае с аристотелевой физикой нельзя было просто открыть, что вакуум возможен или что движение есть состояние, а не изменение состояния. Должна была одновременно измениться целостная картина различных сторон природы.
Для революции характерно изменение таксономических категорий, [1] являющихся необходимой предпосылкой научных описаний и обобщений.
Важнейшей характеристикой научных революций является изменение знания о природе, включенного в язык, и это предшествует описаниям и обобщениям – как научным, так и повседневным. Чтобы пустоту или бесконечное прямолинейное движение сделать частью науки, требуются наблюдения, отчеты о которых можно сформулировать только после изменения языка, посредством которого описывается природа. Пока эти изменения происходят, язык сопротивляется изобретению и введению ожидаемых новых теорий. Именно это сопротивление языка, как мне кажется, объясняет переход Планка от терминов «элемент» и «резонатор» к терминам «квант» и «осциллятор». Искажение или ломка ранее принятого научного языка является важнейшим показателем научной революции.
Глава 2. Соизмеримость. Сравнимость. Коммуникативность
Значения научных терминов и понятий (к примеру, «сила», «масса» или «элемент») часто менялись вместе с теорией, из которой они были введены. Когда такие изменения происходили, невозможно было определить все термины одной теории, используя словарь другой. Последнее утверждение вылилось в отдельный разговор о несоизмеримости научных теорий. Однако, если две теории несоизмеримы, они должны быть сформулированы на взаимно-непереводимых языках. Если это так, утверждается первой линией критики, если нет способа сформулировать обе теории на одном языке, тоща они не могут сравниваться, и не может быть никаких очевидных аргументов, чтобы сделать выбор между ними.
Вторая линия критики: если Кун убеждает нас, что невозможно перевести старые теории на современный язык, но потом он именно это и делает, реконструируя теории Аристотеля, Ньютона, Лавуазье или Максвелла, не выходя за пределы языка, на котором мы разговариваем каждый день, то что он при этих условиях подразумевает, говоря о несоизмеримости?
О происхождении термина «несоизмеримость». Гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника несоизмерима с его стороной или длина окружности – с ее радиусом в том смысле, что нет единицы длины, содержащейся без остатка целое число раз в каждом члене пары. Таким образом, здесь не существует общего измерения. Но отсутствие общего измерения оставляет возможность сравнения. Доказательство того, что это возможно и как это возможно, было одним из блестящих достижений греческой математики.
В применении к понятийному словарю, используемому в научной теории, термин «несоизмеримость» функционирует метафорически. Утверждение, что две теории несоизмеримы, означает тогда, что нет языка, нейтрального или иного, на который обе теории, понимаемые как набор предложений, могут быть переведены без остатка и потерь. Как в метафорическом, так и в буквальном смысле несоизмеримость не влечет несравнимости.
Я буду называть этот умеренный вариант несоизмеримости «частичной несоизмеримостью». Если последовательно придерживаться этого, первое направление критики проваливается. Термины, сохраняющие свое значение при переходе от одной теории к другой, создают основание, достаточное для обсуждения различий и сравнений, связанных с выбором теории. Они создают даже основание для анализа значений несоизмеримых терминов.
Чтобы верно опознавать элементы одного множества, часто необходимо знание и других множеств. Несколько лет назад я пришел к мысли, что умение опознавать гусей предполагает также знакомство с такими созданиями, как утки и лебеди. Совокупность критериев, адекватных для идентификации гусей, зависит, как я показал, не только от характеристик, которыми обладают реальные гуси, но и от характеристик других созданий в мире, где обитают гуси и те, кто о них говорит. Немного референциальных терминов и выражений усваивается в изоляции как от мира, так и друг от друга.
Следует выделить фундаментальную роль наборов терминов, усвоение которых возможно лишь одновременно с другими, порожденными культурой, наукой или другими сферами, и которые иностранцы, сталкиваясь с этой культурой, должны рассматривать вместе при интерпретации. Я думаю, что различные языки формируют различные структуры мира.
Отсутствие структурной гомологии делает французский и английский словари несоизмеримыми. Понятие научной революции возникло в результате открытия: чтобы понять любую часть науки прошлого, историк сначала должен освоить язык, на котором писала эта прошлая наука. Попытки перевода на более поздний язык неминуемо закончатся провалом. Отсюда следует, что историк переживает революцию в собственном опыте.
В науках устойчивые разногласия относительно того, является ли субстанциях элементом или соединением, является ли небесное тело у планетой или кометой, или частица z протоном или нейтроном, быстро породят сомнение в точности соответствующих терминов. В науках пограничные случаи такого рода являются источниками кризиса, поэтому постепенный сдвиг невозможен. Вместо этого напряжение нарастает до того момента, пока не будет представлена новая точка зрения, включающая новое употребление частей языка. Если бы я сегодня переписывал «Структуру научных революций», я подчеркнул бы изменение языка в большей степени, а разделение нормальное/ революционное развитие – в меньшей. Я рассмотрел бы особые трудности, испытываемые наукой при холистском изменении языка, и попытался бы объяснить эти трудности как обусловленные необходимостью с особой точностью устанавливать в науке референцию ее терминов.
Глава 3. Возможные миры в истории науки
Мой исходный посыл таков: чтобы понять суть какого-либо научного убеждения прошлого, историк должен овладеть словарем, который в некоторых областях отличается от современного ему. Только используя старый словарь, он сможет точно перевести суть базовых для изучаемой науки предложений. Эти предложения нельзя выразить средствами перевода, использующего современный словарь, даже если набор слов, который он содержит, расширить путем добавления некоторых терминов из предшествующего словаря.
Историк, читающий устаревший научный текст, обычно сталкивается с отрывками, не имеющими смысла. Я неоднократно сталкивался с этим, читая Аристотеля, Ньютона, Вольта, Бора или Планка. Игнорировать эти отрывки или отбрасывать их как результаты ошибки, незнания, предрассудков было обычным делом, и эта реакция иногда оправданна. Однако гораздо чане благожелательное прочтение проблемных отрывков заставляет поставить другой диагноз. То, что казалось текстовыми аномалиями, оказывается артефактами, результатом неправильного прочтения.
Ввиду отсутствия альтернативы историки рассматривали слова и фразы текста так, как если бы столкнулись с ними в современном дискурсе. Для большой части текста этот способ чтения не вызывает трудностей: большая часть терминов в словаре историка до сих пор используются так, как их использовал автор текста. Но для некоторых наборов взаимосвязанных терминов это не работает, и было бы ошибкой обособить эти термины и изучать их употребление, вследствие которого сегодня эти отрывки представляются аномальными. Кажущаяся аномалия – это обыкновенное свидетельство необходимости локальной корректировки словаря, и, кроме того, она часто дает ключ к сути этих корректировок. Важный ключ к решению проблемы понимания аристотелевой физики дает открытие того факта, что термин, переводимый как «движение», в его тексте обозначает не просто изменение положения, но любые изменения, характеризующиеся двумя крайними точками.
Различные словари – например, словари различных культур или исторических периодов – дают доступ к различным множествам возможных миров, в значительной степени пересекающихся, но никогда не совпадающих. Все, что может быть сказано на одном языке, может, при приложении усилий и воображения, быть понято говорящим на другом языке. Однако предпосылкой такого понимания выступает не перевод, а изучение языка. Знать значение слова – это знать, каким образом употреблять его для общения с другими членами языкового сообщества, внутри которого оно существует. Слова, за редкими исключениями, не имеют значения по отдельности, но только через их ассоциативную связь с другими словами внутри семантического поля. Если изменяется использование какого- либо отдельного термина, тогда использование терминов, связанных с ним, как правило, также меняется.
О возможном мире часто говорится как о том, каким мог бы быть наш мир. Так, в нашем мире у Земли есть только один естественный спутник (Луна), но существуют другое возможные миры, почти такие же, как наш отличные лишь тем, что там Земля имеет два или более спутника, или не имеет ни одного. Также существуют возможные миры, похожие на наш в меньшей мере: там, скажем, нет Земли или нет планет, и даже такие, где законы природы отличаются от наших.
Рассмотрим часть словаря ньютоновской механики, в частности взаимосвязанные термины «сила», «масса» и «вес». Что должен, а чего не должен знать индивид, чтобы быть членом сообщества, использующего эти термины? Как обладание этими знаниями ограничивает миры, которые члены сообщества могут описать без насилия над языком.
В процессе усвоения новых терминов дефиниция не имеет большого значения. Вместо определения эти термины вводятся посредством прояснения примеров их употребления – примеров, приводимых тем, кто уже принадлежит к языковому сообществу, в котором они находятся в обращении. Это прояснение часто включает в себя настоящую демонстрацию, например, в студенческой лаборатории, или одну или несколько иллюстративных ситуаций, к которым, как правило, применяет эти термины тот, кто уже знает, как их использовать.
Среди утверждений, используемых для усвоения одного нового термина, имеются такие, которые содержат и другие новые термины, поэтому они должны усваиваться вместе с первым. Процесс изучения, таким образом, устанавливает взаимосвязи множества новых терминов, структурируя содержащий их словарь. Например, ситуации, демонстрирующие наличие силы: натянутая струна или пружина; тело, обладающее весом (обратите внимание на появление другого термина, который нужно выучить), или в конечном счете определенные типы движения. В соответствии с ньютонианским использованием «силы» не все типы движения демонстрируют наличие ее референта. В связи с этим необходимы примеры, отображающие разделение между вынужденным и свободным движением.
Для детей и аристотелианцев классическим примером несвободного движения служит метание снаряда. Примером свободного движения выступает падающий камень, вращающийся волчок или вращающийся маховик. Для ньютонианца во всех этих случаях мы имеем дело с несвободным движением. Единственный пример ньютонианского свободного движения – движение по прямой при постоянной скорости, и это может быть осуществлено непосредственно только в межпланетном пространстве.
Для большинства студентов основной путь к использованию термина «сила» лежит через усвоение последовательности слов, известной как ньютоновский первый закон движения: «при отсутствии воздействия внешней силы тело движется прямолинейно с постоянной скоростью». (Первый закон Ньютона является логическим следствием второго закона, и причины, по которым он сформулировал их как отдельные законы, долго были загадкой. Ответ может лежать в образовательной стратегии. Если бы Ньютон позволил второму закону включить в себя первый, читателям пришлось бы разбираться в его употреблении терминов «масса» и «сила», что в действительности оказывалось трудной задачей, усложняемой еще и тем, что эти термины ранее имели не только иное индивидуальное использование, но и взаимосвязь между ними была иной.
«Вес» обозначает относительное свойство, которое зависит от присутствия двух или более тел. Таким образом, он может, в отличие от массы, изменяться в зависимости от местоположения, к примеру, на поверхности Земли и Луны. Это различие могут отразить только пружинные весы, но не чашечные, используемые до этого (которые показывают один и тот же результат во всех положениях). То, что измеряется чашечными весами, – это масса, количество, зависящее только от тела и от выбора единицы измерения.
Допустим, природная аномалия требует пересмотра законов Ньютона. После такого пересмотра – скажем, перехода к языку Эйнштейна – можно записывать ряды символов, которые выглядят как исправленные варианты второго закона и закона гравитации. Но это сходство обманчиво, потому что некоторые символы в новых строках относятся к природе иначе, чем соответствующие символы старых, таким образом различая ситуации, которые совпадали в рамках изначально доступного словаря. К ним относятся символы, в овладении которыми были задействованы законы, изменившие форму вместе с изменением теории: различия между старыми и новыми законами отражены в терминах, которыми мы овладеваем одновременно с ними. Каждый из полученных в результате словарей дает доступ к собственному множеству возможных миров, и эти два множества не совпадают друг с другом. Перевод, содержащий термины, введенные посредством измененных законов, невозможен.
Глава 4. После «Структуры научных революций»
В течение тридцати лет с тех пор, как была написана «Структура научных революций», я пришел к твердому убеждению: несоизмеримость должна быть существенным компонентом любого исторического или эволюционного взгляда на научное познание. Будучи правильно понятой, к чему сам я не всегда был способен, несоизмеримость не угрожает рациональной оценке истинных утверждений, как иногда считают.
Важность понятия несоизмеримости я осознал в ходе попыток понять кажущиеся бессмысленными некоторые отрывки из старых научных текстов. Обычно их рассматривали как свидетельство неясности или ошибочности убеждений автора. Мой опыт привел меня к предположению, что эти отрывки просто неправильно прочитывали: их кажущуюся бессмысленность можно было устранить, восстановив прежние значения терминов, которые позднее приобрели иные значения.
Прежде чем начать описание мира, нужно иметь лексическую таксономию. Если разные языковые сообщества имеют разные таксономии в какой-то области, то члены одного из них могут высказывать утверждения, которые вполне осмысленны в рамках данного языкового сообщества, однако в принципе не могут быть сформулированы членами другого сообщества. Например, в первом томе «Семантики» Лайонса есть прекрасный пример: невозможно английское утверждение «кот сидел на половике» («the cat sat on the mat») перевести на французский язык вследствие несоизмеримости французской и английской таксономий для половых покрытий. В каждом конкретном случае истинности английского утверждения можно отыскать соответствующее французское утверждение, использующее такие слова, как «гобелен», «тюфяк», «коврик» и т. и. Однако нет одного французского утверждения, которое относится ко всем и только тем ситуациям, в которых истинно английское утверждение. В этом смысле английское утверждение нельзя высказать по-французски.
Я хочу указать на несколько параллелей между дарвиновской эволюцией и эволюцией познания: 1) развитие науки должно рассматриваться как процесс, идущий из прошлого, а не подталкиваемый будущим, как развитие «из чего», а не «к чему»; 2) различие между нормальным и революционным развитием предстает как различие между процессами, которые требуют изменений таксономии, и процессами, не требующими этого.
После революции обычно (может быть, всегда) появляется больше научных дисциплин или областей познания, чем было до нее. Новая дисциплина либо ответвляется от родительского ствола, либо возникает как объединение наук. Рост специализации и сужение сфер компетенции представляются мне неизбежной платой за возрастание мощи познавательных средств. Если так, то между биологической эволюцией и эволюцией познания можно усмотреть дополнительные параллели.
Во-первых, революции в развитии науки, создающие новые разграничения между научными областями, весьма напоминают возникновение новых биологических видов. Революционное изменение есть не мутация, как я считал многие годы, а видообразование, если прибегнуть к биологической аналогии. И проблемы с видообразованием (например, трудности с отождествлением нового вида, когда он уже возник, и невозможность указать точный момент его появления) очень похожи на проблемы, возникающие в связи с революционными изменениями и появлением, а также с отождествлением новых научных дисциплин.
Вторая параллель между биологической эволюцией и развитием науки относится к единице, которая подвергается видоизменению (не пугать с единицей отбора). В биологии это выделенная популяция, члены которой в совокупности служат воплощением ее генофонда, обеспечивающего ее воспроизведение и отличие от других популяций. В науке такой единицей является сообщество коммуницируюших специалистов, пользующихся единым словарем. Этот словарь обеспечивает основу для проведения и оценки специальных исследований. Он также создает препятствия для взаимопонимания с учеными, не принадлежащими к данному сообществу, и тем самым обеспечивает его изоляцию от представителей других специальностей.
Глава 5. Проблемы исторической философии науки
Так называемые факты никогда не бывают просто фактами, не зависимыми от существующих убеждений и теорий. Их производство нуждается в приборах, которые сами зависят от теории, причем часто от той теории, которую должно проверить экспериментом. Процесс наблюдения иногда приводит к пересмотру концепций относительно того, что наблюдалось. И даже когда расхождения уменьшены, их все-таки может быть достаточно для того, чтобы повлиять на интерпретацию.
Наблюдения, включая и те, которые осуществляются с целью проверки, всегда оставляют пространство для расхождений по вопросу о том, следует ли принимать конкретный закон или теорию. Это пространство расхождений часто использовалось: тонкие различия, казавшиеся постороннему наблюдателю несущественными, имели часто большое значение для тех, кто проводил исследование.
Историка интересует развитие во времени, и стандартный результат его работы воплощен в нарративе. О чем бы ни шла речь, нарратив всегда должен открываться описанием положения дел, которое существовало до начала серии событий, положенных в основу нарратива. Если нарратив имеет дело с убеждениями относительно природы, он должен начинаться с описания того, во что люди верили до начала описываемых событий. Это описание должно показать, почему люди придерживались таких убеждений, а для этого оно должно дать представление о концептуальном словаре, с помощью которого описывались естественные явления и формулировались убеждения об явлениях.
Все прошлые убеждения относительно природы рано или поздно оказывались ложными. Следовательно, вероятность, что какое-то из ныне высказываемых убеждений будет лучше, близка к нулю. Остается лишь принять формулировку, разработанную традицией: последовательность сменяющих друг друга законов и теорий всё больше приближается к истине.
В чем я убежден. Во-первых, архимедова точка опоры, находящаяся вне истории, вне времени и пространства, отброшена. Во-вторых, поскольку ее нет, все, что нам остается, это сравнительные оценки. Развитие науки похоже на эволюцию по Дарвину – процесс, движущийся из прошлого, но не направленный к фиксированной цели. И в-третьих, если понятие истины должно играть какую-то роль в развитии науки, в чем я убежден, то истина не может быть чем-то похожим на соответствие реальности. Подчеркиваю: я не считаю, что существует реальность, до которой наука не может добраться.
Человеческие практики вообще и научные практики в частности, существующие длительное время, развиваются так, что их развитие в общих чертах напоминает древо биологической эволюции. Науки образуют одну из таких групп, хотя в их развитии также встречались точки разветвлений и перекомбинации. Когда я получал научную степень, лишь журнал «Physical Review» публиковал результаты, полученные физиками США. Теперь этот журнал распался на четыре отдельных журнала, и лишь очень немногие подписываются больше чем на один или два из них.
Ранее считалось, что, во-первых, факты предшествуют опирающимся на них убеждениям и независимы от этих убеждений; во-вторых, благодаря практике науки возникают истины, вероятные истины или приближения к истине относительно внешнего мира, не зависимого от мышления и культуры. После подрыва этих основ предпринимались попытки либо вновь укрепить их, либо полностью от них отказаться, показав, что даже в своей собственной области наука не обладает особым авторитетом. Я пытался предложить другой подход.
Во-первых, ученый производит и оценивает не сами по себе убеждения, а изменение убеждений. Этот процесс содержит в себе круг, но этот круг не является порочным. Во-вторых, оценка стремится выделить не те убеждения, которые якобы соответствуют так называемому реальному внешнему миру, а просто самые лучшие из убеждений, которые реально имеются в данный момент у тех, кто осуществляет оценку. Критерии оценки образуют обычное множество, принимаемое философами: точность, размеры области применимости, непротиворечивость, простота и т.п. Наконец, я высказал мысль о том, что приемлемость этой точки зрения предполагает отказ от истолкования науки как некого монолитного предприятия, спаянного единым методом. Науку следует рассматривать как неупорядоченный набор различных специальностей или видов. В этом наборе каждая дисциплина изучает особую область явлений и стремится изменить существующие убеждения относительно этой области таким образом, чтобы обеспечить возрастание точности и других критериев, упомянутых выше. Наука, рассматриваемая как плюралистическое предприятие, может сохранить значительную долю своего авторитета.
Эпизоды в развитии науки, которые когда-то я описал как научные революции, ведут к сужению поля зрения. Практика, использующая новые понятия, никогда не покрывает область, к которой применялись прежние понятия. Всегда остается область (иногда очень большая), исследование которой ведет к росту специализации. После революционного изменения обычно появляется больше специальных дисциплин, чем было до революции. Прежние, более широкие формы практики просто умирают: поиском их следов занимаются историки науки.
Что именно делает специальные дисциплины различными, отделяет их друг от друга и, похоже, оставляет промежутки между ними пустыми? Ответом будет: несоизмеримость, а именно возрастающее концептуальное расхождение между средствами, разрабатываемыми двумя дисциплинами. Если две дисциплины развиваются отдельно одна от другой, их несоразмерность делает невозможным полное понимание между их представителями. И эти проблемы коммуникации уменьшают, хотя никогда полностью не исключают, надежду на то, что две дисциплины произведут на свет здорового отпрыска.
Наконец, тот большой, не зависимый от мышления мир, относительно которого ученые якобы должны открывать истины, заменяется разнообразными небольшими нишами, где трудятся представители разных специальных дисциплин. Эти ниши, которые создают и сами создаются посредством концептуальных и инструментальных средств, используемых их обитателями, столь же устойчивы, реальны и не поддаются произвольным изменениям, как внешний мир. Однако в отличие от так называемого внешнего мира они не являются независимыми от мышления и культуры и не объединяются в единое целое, обитателями которого являемся мы и все представители конкретных научных дисциплин.
Глава 6. Размышления о моих критиках
Я не считаю, как сэр Карл, что «мы являемся пленниками концептуального каркаса наших теорий, наших ожиданий, нашего предшествующего опыта, нашего языка». И я не уверен, что «мы можем вырваться из нашего каркаса воща угодно. Пусть даже снова очутимся внутри каркаса, но он будет лучше и просторнее, и мы в любое время можем вырваться из него снова» (см. Карл Поппер. Объективное знание. Эволюционный подход).
Сэр Карл и его последователи разделяют с традиционными философами науки предположение о том, что проблема выбора теории может быть решена семантически нейтральными средствами. Сначала с помощью общего базисного словаря (не обязательно полного или неизменного) формулируются наблюдаемые следствия обеих теорий. Затем сравнительные оценки истинности или ложности этих следствий дают основание для выбора одной из них. Однако, не существует языка наблюдения, общего для двух теорий. Тем не менее, можно надеяться на существование хороших оснований, позволяющих сделать выбор.
Сэр Карл и его группа настаивают: ученые всегда должны быть настроены критически и стремиться изобретать альтернативные теории. Я же отстаиваю иную стратегию, признающую такое поведение только в особых случаях.
Области, которые стремятся к детальному объяснению некоторой совокупности природных явлений, обретают зрелость с появлением в них теории и техники, удовлетворяющих четырем следующим условиям. Прежде всего – критерию демаркации сэра Карла. Во-вторых, для некоторого интересного подкласса исследуемых явлений предсказания должны быть устойчиво успешными. (Птолемеевская астрономия всегда предсказывала положения планет с признанными пределами ошибки. Сосуществующая с ней астрологическая традиция не могла бы сказать заранее, какие из ее предсказаний будут успешными, а какие – нет.) В-третьих, техника предсказаний должна определяться теорией. Наконец, улучшение техники предсказаний должно рассматриваться как первоочередная задача, требующая увлеченности измерениями и таланта.
Если бы я теперь переписал «Структурe научных революций», то существенно изменил бы ее построение. Для ответа на вопрос «нормальное или революционное?» сначала нужно спросить: для кого? Коперниканская астрономия была революцией для всех; открытие кислорода было революцией для химиков, но не для, скажем, математиков-астрономов. К тому же, несмотря на то что ученые гораздо более единодушны в своей приверженности к общим обязательствам, чем представители, скажем, философии или искусства, в науке существует такая вещь, как школы, члены которых на один и тот же предмет смотрят с очень разных точек зрения.
Последовательное и тщательное сравнение двух успешных теорий требует наличия языка, в который могут быть переведены по крайней мере эмпирические следствия этих теорий без потери или изменения содержания. Существование такого языка широко признавалось с ХУЛ века, когда философы не сомневались в нейтральности чистых чувственных впечатлений и искали «универсальное свойство», которым должны были обладать все языки для их выражения. Исходный словарь такого языка в идеале должен был бы состоять из терминов, относящихся к чистым чувственным впечатлениям, плюс синтаксические связки.
Ныне философы отказались от надежды найти такой идеал, однако многие из них продолжают считать, что теории можно сравнивать с помощью базисного словаря, состоя чего из слов, которые без особых проблем и независимо от теории можно соотносить с природой. Именно с помощью такого словаря формулируются базисные предложения сэра Карла. Они нужны ему для сравнения степеней правдоподобия альтернативных теорий или для выражения того, что некая теория «более вместительна», чем ее предшественница.
Фейерабенд и я неоднократно доказывали, что такого словаря не существует. При переходе от одной теории к следующей слова изменяют свои значения или условия применения. Несмотря на то что большая часть терминов используется и до, и после революции, например, «сила», «масса», «элемент», «соединение», «клетка», способы их отнесения к природе несколько меняются. Таким образом, успешные теории, как мы говорим, несоизмеримы.
Почему перевод – теорий или языков – столь труден? Как уже часто отмечали, – потому что языки по-разному расчленяют мир, и у нас нет нейтральных металингвистических средств для фиксации отчетов о наблюдениях.
Одной из основ, от которых зависит практика нормальной науки, является усвоенная способность объединять предметы и ситуации в классы сходства. Одна из сторон всякой революции выражается в том, что некоторые отношения сходства изменяются. Объекты, которые до революции объединялись в одно множество, после революции могут попасть в разные множества, и наоборот. Представьте Солнце, Луну, Марс и Землю до и после Коперника; свободное падение, маятник и планетарное движение до и после Галилея; или соли, сплавы и соединение серы с железом до и после Дальтона.
Глава 8. Метафора в науке
Открытость и нечеткость метафоры имеет важную аналогию с процессом, посредством которого вводятся и используются научные термины. Когда ученые употребляют термины «масса», «электричество», «теплота», «смесь» или «соединение» по отношению к природе, у них обычно нет списка критериев, необходимых и достаточных для детерминации референтов этих терминов.
Метафора играет существенную роль в установлении связей между научным языком и миром. Эти связи, однако, не задаются раз и навсегда. В частности, смена теорий сопровождается сменой некоторых важных метафор и соответствующих частей сети сходств, посредством которой термины соотносятся с природой. После Коперника Земля стала пождать на Марс (и рассматриваться как планета), а до него Земля и Марс наждались в разных естественных семействах. До Дальтона раствор соли в воде принадлежал к семейству химических соединений, после Дальтона его стали относить к физическим смесям и т.д.
Глава 10. Естественные и гуманитарные науки
С точки зрения Чарлза Тейлора, человеческие действия представляют собой текст, написанный поведенческими знаками. Понимание деятельности, раскрытие значения поведения требует герменевтической интерпретации, а эта интерпретация, подчеркивает Тейлор, будет различной для разных культур, а иногда даже для разных индивидов. Вот эта особенность – интенциональность поведения – и отличает, по мнению Тейлора, изучение человеческой деятельности от изучения природных явлений. На мой взгляд такая точка зрения ошибочна.
Мы с Тейлором начинаем расходиться во мнениях, когда он утверждает, что социальные понятия формируют мир, к которому их применяют, а естественнонаучные понятия этого не делают. Для него небеса не зависят от культуры, но я с этим не могу согласиться. Он мог бы сказать, что в то время как американец или европеец мог бы указать японцу на планеты или звезды, он не смог бы это сделать в отношении справедливости или торговли. Я возразил бы на это: указать можно только на конкретную звезду или планету, на конкретный пример торговли или справедливости. И эти затруднения одинаковы как для природного, так и для социального мира.
Как в случае справедливости или торговли, ни предъявление, ни изучение примеров не могут осуществиться до тех пор, пока не усвоено понятие об объекте, который предъявляют или изучают. А усвоение его, независимо от того, идет ли речь о естественных или социальных науках, обусловлено культурой, в рамках которой оно посредством примеров передается (иногда в измененном виде) от поколения к поколению.
В естественных науках, как и в гуманитарных, не существует нейтрального, не зависимого от культуры множества категорий, с помощью которого можно описывать совокупности объектов или действий. Конечно, различия между естественными и гуманитарными науками есть, но я не знаю, носят ли они принципиальный характер или являются лишь следствием неравной степени зрелости этих двух областей.
Хотя естественные науки и могут нуждаться в том, что я назвал герменевтической базой, сами они не являются герменевтической деятельностью. С другой стороны, науки о человеке являются таковыми и быть иными не могут. Но даже если это верно, можно все-таки спросить, должны ли они ограничиваться герменевтикой и интерпретацией? Быть может, с течением времени возрастающее число специалистов найдет парадигму, способную поддержать нормальное исследование и решение головоломок?
Я не знаю принципа, который исключал бы возможность того, что те или иные гуманитарные науки однажды найдут парадигму, способную поддержать нормальное исследование по решению головоломок. Для меня вероятность такого события повышается благодаря взгляду в прошлое. Большая часть того, что обычно говорится в обоснование невозможности нормального исследования в гуманитарных науках, два столетия назад говорилась в защиту невозможности науки химии, а столетие спустя повторяли то же самое, отстаивая невозможность науки о живых организмах. Весьма вероятно, что событие, о котором я говорю, уже произошло в некоторых конкретных областях гуманитарного познания. Мне кажется, отчасти это имеет место в экономике и психологии.
Беседы с Томасом С. Куном (интервью)
Большое влияние на меня оказали работы Пиаже (см., например, Жан Пиаже. Речь и мышление ребенка).
К областям познания нельзя применять более поздние обозначения. Изменяются не только идеи, изменяется структура дисциплин, в которых мы работаем. Так, в ХУЛ столетии вы еще не можете отделить философию от науки. Их разделение началось после Декарта, однако у раннего Декарта его еще не было, не было и у Бэкона, отчасти оно проявляется только у Лейбница… Британский эмпиризм, в частности Локк, начал увеличивать расстояние между наукой и философией.
[1] Таксономические категории в биологии – иерархические классы: царство, класс, семейство, род, вид…
baguzin.ru
Томас Кун - После «Структуры научных революций»
Кун Томас
После «Структуры научных революций»
Thomas S. Kuhn
THE ROAD SINCE STRUCTURE
Перевод с английского А.Л. Никифорова
Дизайн обложки: Э.Э. Кунтыш
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
Печатается с разрешения издательства The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, USA
© The University of Chicago, 2000
© Перевод. АЛ. Никифоров, 2011
© Издание на русском языке AST Publishers, 2014
Предисловие Тома к ранней подборке его философских статей, «The Essential Tension», опубликованной в 1977 г., – это история исследований, которые привели его к написанию «Структуры научных революций» (1962 г.) и продолжались после ее выхода в свет. Там были упомянуты некоторые детали его биографии, разъяснявшие, каким образом от физики он перешел к историографии и философии.
В данной книге внимание сосредоточено на философских и метаисторических вопросах, которые, как утверждает автор, «сегодня… интересуют меня в наибольшей степени и о которых я уже давно хотел высказаться». Во введении к этой новой книге издатели связали каждую статью с актуальными и потому непрестанно рассматриваемыми проблемами: это важный момент в непрерывном поиске решения. Книга представляет собой не цель исследований Тома, а этап, на котором эти исследования были прерваны.
Название книги опять-таки намекает на путешествие, а завершающая часть, содержащая интервью Тома Афинскому университету, есть не что иное, как более подробный рассказ о его жизни. Я чрезвычайно рада, что интервьюеры и издательский совет журнала «Neusis», где впервые появилось это интервью, разрешили опубликовать его здесь.
Я присутствовала при этом и была восхищена знаниями, чуткостью и искренностью коллег, принимавших нас в Афинах. Том чувствовал себя абсолютно непринужденно и говорил свободно, предполагая, что просмотрит интервью перед его выходом в печать. Однако время ушло, и эта задача досталась мне и другим участникам.
Я знаю, Том внес бы в текст существенные поправки – не вследствие педантичности, которая не была ему свойственна, а в силу присущей ему деликатности. В его беседе с афинскими коллегами есть выражения и оценки, которые он наверняка поправил бы или вычеркнул. Однако не думаю, что это должна сделать я или кто-то другой. По этой же причине мы не стали исправлять некоторые грамматические нестыковки устной речи и завершать незаконченные фразы.
Я должна поблагодарить за помощь коллег и друзей, в частности Карла Хафбауэра, который поправил мелкие ошибки в хронологии и помог расшифровать некоторые имена.
Обстоятельства, при которых Джим Конант и Джон Хауджиланд взялись за издание этой книги, изложены на следующих страницах. Могу лишь добавить: они сделали все, чтобы оправдать доверие Тома, и я им искренне благодарна. Столь же благодарна Сьюзен Абрамс за ее дружеские и профессиональные советы как в данном проекте, так и в прошлом. Мне также во всем и всегда оказывали помощь Сара, Лиза и Натаниел Кун.
Джехейн Р. Кун
Изменения случаются Почти каждый знает, что в «Структуре научных революций» Томас Кун обосновал мысль о том, что история науки не является непрерывной и кумулятивной, она часто прерывается более или менее радикальными «сменами парадигм». Менее известны собственные попытки Куна как можно лучше понять и описать эпизоды в развитии науки, которые связаны с такими важными изменениями. Труды, собранные в этой книге, представляют собой более поздние попытки переосмыслить и расширить его собственные «революционные» гипотезы.
Содержание книги мы обсуждали вместе с Куном незадолго до его смерти. Хотя он уже не мог вникать в детали, зато имел вполне определенное представление о том, чем должна стать книга. Стараясь приобщить нас к своим замыслам, он высказывал разнообразные пожелания, рассматривал доводы «за» и «против» при обсуждении каких-то случаев и ситуаций, сформулировал четыре основные идеи, которым мы должны были следовать. Для тех, кого интересует, как осуществлялся отбор статей, мы кратко изложим эти основные идеи.
Первые три идеи, которыми мы должны были руководствоваться, основывались на представлении Куна о том, что данная книга должна быть продолжением его «The Essential Tension», опубликованного в 1977 г. В тот сборник Кун включил только статьи, в которых, по его мнению, разрабатывались философски важные темы (хотя и в контексте исторических, а также историографических соображений), в отличие от вопросов, посвященных рассмотрению конкретных исторических эпизодов. Поэтому руководящие идеи были следующие: 1) отбирать статьи явно философского характера; 2) причем написанные в последние два десятилетия жизни Куна[1]; 3) это должны быть весомые работы, а не краткие заметки или выступления.
Четвертая идея относилась к материалу, рассматриваемому Куном в качестве основы для написания книги, над которой он работал в последние годы. Поскольку мы считаем своим долгом подготовить к изданию именно данную книгу, то решили отказаться от этого материала. Под ограничение попали три важных цикла лекций: «Природа концептуальных изменений» (Перспективы философии науки, Университет Нотр-Дам, 1980), «Развитие науки и лексические изменения» (Thalheimer лекции, университет Джона Хопкинса, 1984) и «Наличие прошлой науки» (Шермановские лекции, Университетский колледж, Лондон, 1987). Хотя записи этих лекций получили распространение и порой цитировались в публикациях некоторых авторов[2], Кун не хотел, чтобы они в таком виде вошли в эту книгу.
* * * Статьи, вошедшие в данную книгу, посвящены четырем основным темам. Во-первых, Кун повторяет и защищает мысль, восходящую к «Структуре научных революций» (в дальнейшем просто «Структура»), что наука представляет собой когнитивное эмпирическое исследование природы, проявляющее прогресс особого рода, хотя этот прогресс нельзя мыслить как «все большее приближение к реальности». Прогресс скорее выражается в виде совершенствования технической способности решать головоломки, контролируемой строгими, хотя и всегда привязанными к традиции, стандартами успеха или неудачи. Этот вид прогресса, в своем наиболее полном выражении присущий только науке, является предпосылкой чрезвычайно тонких (и часто весьма дорогих) исследований, характерных для научного познания и для получения удивительно точного и подробного знания.
Во-вторых, Кун развивает идею, опять-таки восходящую к «Структуре», что наука, по существу, – социальное предприятие. Это отчетливо проявляется в периоды сомнений, чреватых более или менее радикальными изменениями. Только благодаря этому индивиды, работающие в рамках общей исследовательской традиции, способны приходить к разным оценкам возникающих перед ними трудностей. При этом одни склоняются к разработке альтернативных (часто кажущихся нелепыми, как любил подчеркивать Кун) возможностей, в то время как другие упорно продолжают пытаться решать проблемы в рамках признанной структуры.
Факт, что при возникновении таких затруднений последние составляют большинство, важен для многообразных научных практик. Проблемы обычно могут быть решены – и в конечном счете решаются. При отсутствии достаточного запаса настойчивости в поиске решений ученый не смог бы дойти до конца в тех редких, но определяющих случаях, когда усилия осуществить полный концептуальный переворот полностью оправдываются. С другой стороны, если бы никто не пытался разрабатывать альтернативы, крупные преобразования не смогли бы возникнуть даже тогда, когда они действительно необходимы.
Таким образом, именно социальная научная традиция способна «распределять концептуальные риски» так, как не смог бы сделать ни один индивид, что позволяет ей обеспечивать долговременную жизнеспособность науки.
В-третьих, Кун разъясняет и подчеркивает аналогию между прогрессивным развитием науки и биологической эволюцией – аналогию, которой он лишь мимоходом касается на последних страницах «Структуры». Разрабатывая эту тему, он отходит от своей первоначальной схемы, согласно которой периоды нормальной науки с единой областью исследования иногда разрываются сокрушительными революциями. Вместо этого он вводит новую схему, где периоды развития в рамках единой традиции иногда сменяются периодами «расщепления» на две различные традиции с отличающимися областями исследования. Конечно, сохраняется возможность, что одна из этих традиций постепенно ослабеет и умрет. В этом случае мы возвращаемся к прежней схеме революций и смены парадигм.
Однако в истории науки обе последующие традиции часто не вполне похожи на общую для них предшествующую традицию и развиваются как новые научные «специальности». В науке видообразование проявляется как специализация.
www.libfox.ru

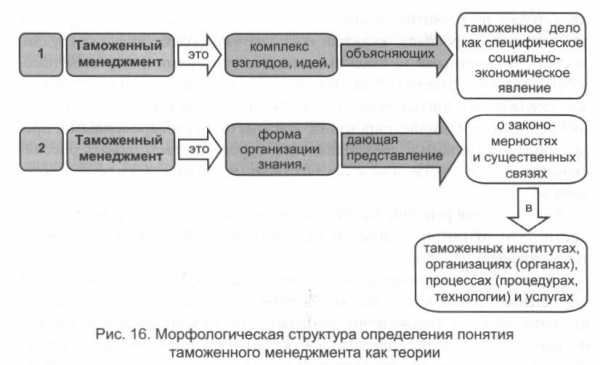






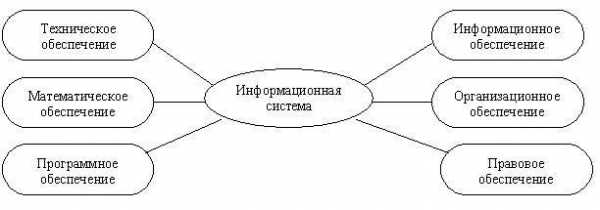


 Эта книга стоит меньше чем чашка кофе!
Эта книга стоит меньше чем чашка кофе!