|
|
|
|
 Far Far |
 WinNavigator WinNavigator |
 Frigate Frigate |
 Norton
Commander Norton
Commander |
 WinNC WinNC |
 Dos
Navigator Dos
Navigator |
 Servant
Salamander Servant
Salamander |
 Turbo
Browser Turbo
Browser |
|
|
 Winamp,
Skins, Plugins Winamp,
Skins, Plugins |
 Необходимые
Утилиты Необходимые
Утилиты |
 Текстовые
редакторы Текстовые
редакторы |
 Юмор Юмор |
|
|
|
File managers and best utilites |
Реферат: Философия литературного творчества. Философия и литература реферат
Философия и литература: современный дискурс
[8]
Напряжение, изначально существующее между поэзией, литературой, искусством, философией и языком, плодотворно, хотя они по-разному представляют себя друг другу 1. Семь мудрецов античной древности через дидактическую литературу направляли становящуюся античную философию на размышления по поводу космоса, мира, человека, счастья и справедливости, истины, добра и красоты. Гомеровские «Илиада» и «Одиссей» вдохновлены предфилософией древних греков. «От мифа к логосу» античная философия пришла через дидактическую литературу и художественное творчество. Библия как и другие тексты, зафиксировавшие святое и священное, в своих книгах сплели воедино философию и художественное воплощение. Речь обладает изначальной способностью обращаться как к образу, так и к мысли 2. Сократ и Платон, древние мыслители Индии и Китая были любословны, а поэтика философского слова была на такой высоте, что до нашего времени вызывает восторг и подражание как «предвосхищение совершенства» (Г. Гадамер).
Философия в своей деятельности все время как бы подходит к пределу культуры и заглядывает за него. Не зря Х.Л. Борхес называл философию разделом фантастической литературы, в которой существует взаимное сопряжение уникального звучания и многоголосия. В истории цивилизации были поэты-философы типа Тита Лукреция Кара, романисты-философы, философствующие поэты и прозаики — Данте, Шекспир, Сервантес, Гете… Немецкие романтики (братья Шлегели, Новалис, Тик и другие) одним из главных пунктов своей эстетической программы сделали «смешение поэтических и философских воззрений», объединение поэзии с философией. Проблема места и роли искусства в историко-философском процессе, начиная с эпохи романтизма пронизывает собой все гуманитарное самосознание европейской культуры, отражая происходящие в ней сущностные перемены. Вначале Кант положил искусство в качестве основания уникальной власти рассудка и уникальной модели человеческой целостности, дав Шиллеру и всей последующей шиллеровской философской традиции повод апеллировать к искусству как к универсальному средству восстановления человека в его нивелированном цивилизацией праве на живую, не нарушенную бытийную полноту. Затем молодой Гегель, полагавший что «высший акт разума, охватывающий все идеи, есть акт эстетический» и что [9] «философия духа — это эстетическая философия» 3, дал основания для романтического панэстетизма, который стал уже вполне осознанной реакцией на достаточно зрелые признаки кризиса новоевропейского рационализма.
О том же говорили в России и любомудры (Веневитинов, Хомяков, Шевырев), А.С. Пушкин и Ф.И. Тютчев — и к тому же стремились, правда, со своими собственными основаниями 4. В России требование философской поэзии глубочайшим образом соотносилось с теми проблемами, которые возникли перед общественной мыслью в трагические времена, следующие за неудачным восстанием декабристов. Установка на интенсивность поэтического познания мира и человека, на углубленный психологизм — эти отличительные черты произведений философских жанров того времени — были в высшей степени закономерными для общих тенденций литературного развития. Между философской поэзией первой половины ХIХ в. (в первую очередь Пушкина, Лермонтова, Тютчева) и психологическими романами и повестями Л. Толстого и Достоевского существует самая тесная связь. Русская мысль всегда отличалась импульсивной непосредственностью — она тесно связана с жизнью. Отвлеченным построениям она часто предпочитала живую плоть поэтического образа. Вот почему в развитии оригинальных философских идей в России поэтическая мысль играла такую же роль, как и мысль научная и непосредственно философская. Поэзия в определенные времена и при определенных условиях может стать мудростью высокого значения, философией. И.С. Тургенев называл Тютчева «мудрецом» и часто ссылался на его стихи, как и на изречения любимых философов. Не философами, а Пушкиным, Тютчевым и Баратынским проверяли свои раздумья Л. Толстой, Добролюбов, Достоевский и Блок. В свою очередь Тютчев, Толстой и Достоевский давали вдохновение Бахтину, Витгенштейну, Буберу и Левинасу.
В Х1Х веке философские искания характерны для всех крупных писателей, когда художественная литература в целом находилась на наибольшем удалении от философии. Достоевский их сближает. Понимание свободы как нравственной чистоты личности близко у Достоевского и Канта. В литературном произведении в ХХ веке все чаще видят философское начало, даже если оно органически вплетено в художественную ткань. Критикуя кризисное состояние современной культуры, авторы призывают ориентироваться, как феноменология и Кассирер, на «жизненный мир» индивида, на первоначальные очевидности донаучного, личностного сознания. Писатель дышит философской атмосферой эпохи, и не может быть от нее удален. Он заведомо философствует. Что, действительно, реальнее: мир накопленных знаний, или сам человек? Кому отдать предпочтение — надындивидуальной абстракции или индивиду? Однако, бытующий мир лежит среди небытия. [10] Пресыщение ведет к отказу от комфорта, аскетизм — оборотная сторона общества потребления. Культу тотальности, всеобщего Гегеля экзистенциализм противопоставил культ единичного, персоны (маски, роли, личности).
Действительно, есть писатели, которые пронзительно чувствуют философскую сущность мира — Л. Толстой, Достоевский, Гофмансталь, Кафка, Пруст, Джойс, Музиль, Сент-Экзюпери, Шоу, Борхес, Кортасар, Мэрдок, У. Эко, К. Уилсон и т.д. В ХХ веке философия соединяется с художественными формами слова, чтобы глубже и разностороннее выразить бытие человека. Ни одно современное философское направление не избежало этого искуса, но особенно преуспел экзистенциализм и постмодерн. Философия и литература по-своему отражают и осваивают мир. Философия как мировоззрение оказывала и будет оказывает влияние на литературу, сама испытывая воздействие литературы. Философский текст- это вмешательство в диалог, стремящийся к литературно-поэтическому выражению и развертывающийся в бесконечности, поскольку искусство словесного построения и есть способ существования истины. Отношения философии и языковых форм искусства не могут реализоваться только в коммуникации. Часто они не могут выразить адекватно «истину» (Витгенштейн), ее необходимо выявить, расшифровать, чему и способствует «лингвистика текста» (Рикер, Деррида, Де Ман).
Анализ прогрессирующего в культуре Нового и Новейшего времени сближения искусства и философии — особенно наглядного в ХХ в., отмеченного расцветом маргинальных жанров на стыке между искусством и философией (философская эссеистика, социальная фантастика и т.д.), осуществлялся исходя из не всегда осознаваемых посылок о том, что философия в этом процессе воплощает собой идею науки. Отсюда всякое отклонение от канона строгой научности, как-то эстетизация, оформление профессионального философствования на манер Кьеркегора, признавалось как безоговорочное свидетельство кризиса идеи положительного метода 5. Конечно, философия как научное мировоззрение склонна интеллектуализировать искусство. В результате историк философии, вынужденный обращаться к художественному материалу (например, в творчестве А. Мердок и К. Уилсона), неминуемо подходит к нему как к сфере приложения уже готовых, до эстетического опыта присутствовавших в сознании мыслителя философских идей. Искусство вводится в историко-философский процесс в роли распространителя философских идей, которые и должен выявить историк философии в тексте произведения. Неубедительность этого метода стало особенно видимо в 60-х гг. в постструктурализме, а затем в постмодернизме. При этом философия, отождествляющая себя с наукой, чрезвычайно трудно удерживается от соблазна своеобразной подгонки под норму тех линий [11] в истории западноевропейской философии, которые отличаются ярко выраженной национальной спецификой. В этом случае вся постренессансная философская мысль Франции (от Монтеня до Ж. Делеза) должна была быть отнесена к компетенции литературы. В словах А. Камю — «Хочешь быть философом — пиши роман» — содержится не только осознание интеллектуальной драмы современной цивилизации, «когда мысль оставила притязания на универсальность, когда наилучшей историей мысли была бы история ее покаяний» 6, но и предельно сконцентрированный многовековой опыт французской ментальности 7.
С другой стороны, признав в самом общем виде, что художественная (духовно-практическая) деятельность представляет наравне с научной (теоретической) самостоятельный модус философствования, а ее продукты должны быть включены в поле зрения истории философии, мы логично выстраиваем ряд вопросов 8. Вначале надлежит определить, какое именно искусство мы вправе называть философским, выполняющим в пределах той или иной культуры не только функции философско-мировоззренческие, но и идейно эвристичные, которое, будучи транспонировано методом аналогии на язык понятий, привносит в философскую рефлексию новый смысловой момент. Затем следует ответить на вопрос, на каком основании и какими методами история философии может вводить философское искусство в «сканированные» ею теоретические слои культуры, не теряя специфику объекта, не разрушая искусство как искусство.
Любая философская идея, содержащаяся в художественном произведении, вербализуется ли в тексте напрямую (как в тех видах искусства, где материал его — естественный язык), не явно ли присутствует в «теле» произведения (как определяющая интенция сознания героя художественного произведения), представляет собой некий пример «экзистенциальной истины» Кьеркегора. Другими словами, она может быть проверена и вообще существует в пределах данного художественного целого, выстроенного автором из собственной жизни, так что любой акт его разрушения чреват фальсификацией самой идеи. Дальнейший исход этой игры детерминируется социокультурной ситуацией.
Достаточно долгое время бытовала точка зрения, что художественное творчество автономно и не зависит от философии, а с другой стороны доказывалось, что оно партийно 9. Р. Гароди в «Реализме без берегов» и Э. Фишер в «Необходимости искусства» предлагали отгородить искусство от [12] общественно-политической жизни. Сейчас уже не вызывает возражения наличие двусторонней связи философии, искусства и действительности, т.е. существования реального воздействия философии и искусства на реальную жизнь, как и реальный вклад, который внесла философия в мировую литературу, о влиянии философии на литературу 10. В нашей литературе художественно ориентированные философские теории ХIХ-ХХ вв. недавно расценивали как сумму многообразных проявлений единой болезни буржуазного «несчастного сознания», разуверившегося в рациональности мира 11. Сегодня сами работники слова говорят о «теле современной литературы», характеризующемся при «бессилии современного слова» как «кладбищем стилистических находок», так и «миром светлых акциденций» 12.
Как правило, о литературе в философии, вернее, о взаимодействии философии с художественными формами, чаще всего говорят при анализе Ницше, философии экзистенциализма. В принципе, все философы ХХ в. внесли свою лепту в эту сферу. Например, аналитики Б. Рассел и его ученик (в определенную пору) Л. Витгенштейн. Общеизвестно, что Б. Рассел получил Нобелевскую премию по литературе (1950) за работу «Брак и мораль» и другие, ибо по философии таких премий не предусмотрено. Но, с другой стороны, это была заслуженная премия именно по литературе. Об этом говорят его историко-философские, нравственно-политические работы, эссе по свободомыслию и атеизму — все они высокохудожественные произведения, великолепной, отточенной стилистики, остроумные, использующие широкую гамму литературных приемов. Касался ли он «Проблем Китая», «Практики и теории большевизма», проблем нравственности, мудрости Запада, истории философии, науки, математики, логики, искусства философствования, анекдотов, борьбы за мир против войны, он выступал не только как философствующий публицист (беседы по радио и на телевидении), но и философствующий литератор, особенно в своих фантастических рассказах 13. Саму философию он называет «искусством рационального предположения» 14.
С другой стороны, высокое художественное мастерство писателя, сопряженное с научностью, придает литературе характер документальности, а художественность выступает как своеобразное остранение (В. Шкловский) 15. Этот термин обозначает задачу литературного произведения [13] вывести читателя из «автоматизма восприятия», заставить его как бы заново увидеть предмет, сделать привычное необычным, странным. Брехт этот термин представил как «очуждение» — результат философской «перестройки» искусства, внедрения философского мышления в мышление художественное, как и освобождения явления от «чуждости», т.е. видимости 16. Художник этими приемами пытается привлечь внимание к актуальной проблеме, заставить читателя задуматься и прийти к правильному выводу. Есть четыре элемента структуры остраненного образа: шифр (загадка — древнейший вид интеллектуализма в искусстве), ибо без знания «Феноменологии духа» Гегеля нельзя ухватить самую важную идею романа Германа Гессе «Игра в бисер». Или при чтении «Девяти рассказов» Дж. Сэллинджера необходим философский шифр, лежащий в канонах древнеиндийской эстетики. Согласно последним, задача искусства пробудить в человеке девять поэтических настроений: любовь или эротическое наслаждение, смех или иронию, сострадание, гнев, мужество, страх, отвращение, откровение, отречение от мира. Этому и соответствуют рассказы Сэллинджера. Можно, конечно, прочитать их и не вникая в их философскую основу, но знакомство с ней раскрывает полнее и замысел, и палитру автора. Другие элементы остраненного образа — уплотнение (смысл романа Кафки «Замок» многозначен, там есть и история распавшейся империи Габбсбургов, и религиозная символика, и психоанализ), переосмысление мифа — тоже уплотнение, ибо дает возможность дать предельно обобщенную, вневременную конструкцию. Этим же целям служит фантастика. Прояснение — Так у Булгакова в «Мастере и Маргарите» три плана действия — современная Москва, древняя Иудея, фантастический мир Воланда, но их можно свести к четвертому, «логично» истолковать как горячечный бред поэта Вани Бездомного, тронувшегося после смерти на его глазах незадачливого критика, отрицавшего реальность Иисуса Христа. Сложные планы действия имеют и романы У. Эко, М. Павича м др. Вторичная наглядность — или «реализация метафоры», смысл в том, чтобы устранить словесный штамп, вернуть слову первоначальный смысл, наглядность. Реализованная метафора — зримый шифр. Читатель должен снять наглядность, увидеть за ней мысль.
Искусство, в том числе и литература, проявляет в ХХ веке особый интерес к философии, сближается, а иногда и сливается с ней. Художественное произведение — не иллюстрация той или иной философской теории, как это понимают некоторые исследователи. В древности существовало нерасчлененное единство между художественной и философской литературой. Если в диалогах Платона поэзия все же не есть подлинная мудрость, философия, то Аристотель утверждает, что искусство сродни философии. Греческое наследие сказалось в обращении западной философии от субстанции к субъекту — даже в сфере языка. Рационализм убежден, что истинной системе [14] философии лучше всего учиться у поэзии (Колридж). Действительно, «философия вторглась в пограничную область поэтического языка», ибо любая речь способна обращаться как к образу, так и к мысли, «растворяясь в невыразимости замкнутого на себя слова» 17. У Канта гений — это художественный поиск всеобщего. Шеллинг низводит философию до уровня поэзии, Гегель, наоборот, поэзию поднимает до уровня философии. К. Ясперс в «Шифрах трансценденции» отмечает, когда прекращается познание, мы получаем возможность посредством шифров яснее осознать свое человеческое бытие. Шифры парят в сознании, они многозначны и необщезначимы. В художественно-философской форме предмет предстает в своей адекватной форме, говорил еще Шопенгауэр. Идея же доступна для гения.
Кьеркегор предлагает стиль, в котором соседствуют ирония, скрытый смысл, афористичность, диалектика субъективных противоречий, спрятанность своего «я» за диалогической формой, за псевдонимами. Таковы его проповеднические, поучающие произведения. Философская поэзия Кьеркегора оказала огромное влияние, к примеру, на скандинавскую литературу и искусство в лице Стриндберга, Ибсена, Ингемара Бергмана. Кьеркегор предсказал философско-поэтический экзистенциализм в кинематографе, литературе, ибо «подпольный человек» оказался отчужденным втройне: чуждый богу, природе и гигантскому социальному аппарату (У. Баррет). Кьеркегора продолжили Ницше, Шпенглер. Ницше и поэт, и философ. Он высказал мысль, что познание не есть познание истины, а часто стремление к власти, к обладанию. Сознание — опасно, оно порождает мир знаков. Лишь тело спонтанно-чувственно постигает жизнь. Философы, художники и святые совершают скачек к сверхчеловеку.
Эту линию начал Дильтей (он превратил философию в описание эмоциональных переживаний, психических состояний, а историю — в индивидуальную неповторимость конкретных фактов). В конце 50-х — начале 60-х годов в Европе в умонастроении интеллектуалов Запада главное место заняла интроспекция: подробное описание сознания человека, когда он надеется, страдает, любит, одерживает победу или терпит поражение, когда он делает выбор. Этому умонастроению подчинялись и философское размышление и художественное творчество — литература, поэзия, театр, экран. Феноменологический реализм был в теории кино (Антониони), и литературе — это манифестация эмоций, рефлексов, реакций и переживаний, не имеющих явной мотивировки (Е. Пачи). Концепции Дильтея, проистекали в большей мере из романно-эпического сознания, его призыва прочитать историю как движение множества индивидуально-неповторимых «жизненных единств» (что великолепно реализовал европейский реалистический роман XIX века). Феноменологическое и экзистенциалистское слияние чувственного [15] с рациональным уподобляли предмет «философского усмотрения» (Гуссерль) художественному образу.
Источник «эйдоса» Гуссерля» (как результата «идеирующей абстракции» и «конституирующей» предмет интенции) имманентная активность сознания, эстетический характер которого обусловлен не материально-художественной реализацией, а смыслообразующей функцией целостного интеллектуально-эмоционального акта. Таким образом в предмет философского усмотрения включаются эмоциональные характеристики, условия переживания мыслимого как целостного интеллектуально-эмоционального акта. Чувственное и рациональное соединяются. Актуализируется феноменология языка 18. Философскую традицию Гуссерль преобразует в большей мере в эстетическую, поскольку сближает предметы философского усмотрения с образами искусства, действительно наделенными общезначимостью понятия и целостной структуры субъективного переживания. Художественная мысль, искусство — неосознанный идеал философского усмотрения, пересматривающий философские задачи по типу своих методов. Вначале происходит уподобление субъекту эстетического отношения, а затем сближение с характерной субъективностью в искусстве, с принципом художественной типизации. Не случайно Гуссерль, в конце своей жизни, писал о «поэзии истории философии» 19.
Переход Гуссерля на художественно-эстетические позиции был подхвачен и развит учениками и последователями, хотя дальнейшую интерпретацию получает в зависимости от идейно-духовного контекста, превращаясь у Хайдеггера в плацдарм критики гуманистической традиции, а у Ясперса — в источник новых надежд на переосмысление философии в духе изначальности «осевого времени». В основе этих трансформаций видна модель культуры, обоснованная через искусство, которое рассматривается как живая парадигма социально-культурной практики, как смысловой генератор всей современной культуры. На этой основе наметилось сближение феноменологии и экзистенциализма, их общая переориентация на художественное сознание, что привело к влиянию эстетики на онтологию. Хайдеггер как литературный романтик, представляет конечную антиномию романтического индивида. Можно представить и иные концептуальные решения, например, в философии Л. Витгенштейна 20.
Решая задачу восстановления философии как логики, как строгой науки, Гуссерль пришел к выводу, что главным интересом философа является мир непосредственных восприятий, существенно повлиявший на установки [16] современных писателей. Понятие личностного смысла в структуре сознания, который мы применяем при анализе произведений искусства и их восприятия, имеет известные аналогии в феноменологической философии, задача которой — открыть путь к «подлинному человеку». Это возможно только вынесением «фактуального» за скобки, вскрытия истинной природы «Я», путем борьбы против отчуждения человека, против объективации, которая сводит человека к его физическому телу. Конечно, «жизненный мир» достаточно противоречиво относится к современной научной картине мира, которая объективирует, формализует мир. Подлинная же картина мира — художественная, философская, мистическая, религиозная — может иметь своей почвой только жизненный мир, в противном случае — наступает отчуждение мира, лежащее в основе самоотчуждения человека.
Научно-технический прогресс внес брожение в умы интеллектуалов. Первая реакция была нигилистической — личное неприятие казалось панацеей от сущих и грядущих бед, о чем заявили битники и хиппи — герои 50-х годов. Нигилизм отказа сменился нигилизмом разрушения «новых левых» и «жаркой весной» 1968 г., подпитываемых идеями фрейдизма и экзистенциализма, а затем уходом в мир иллюзий. Попытка преодоления «одномерной» технократической цивилизации и воспитания «нового человека» с «новой культурой» привела в культуру наркотиков, в продуцирование «коллективных» представлений (то ли по Юнгу, то ли по Леви-Брюлю). Одним из специфических обстоятельств духовного развития второй половины ХХ века является то, что битва идей перестала быть уделом идеологов-профессионалов. Она вышла за пределы профессиональной политики и философии и вошла в широкую сферу производителей духовного мира личности. Со своей стороны философия раздвинула круг рассматриваемых вопросов, активно участвуя в спорах по многим вопросам, особенно по вопросам литературы, искусства, театра и т.п. Философы обращаются посредством СМИ к «человеку с улицы» на доступном языке, претендуя стать наставниками, «учителями жизни». Но и человек с улицы охотно философствует, ибо его к этому толкает огромное количество информации, сдвиг по всей фазе обыденной жизни. Философия откликается и помогает в изменяющейся жизни найти ориентиры. С другой стороны, еще Хайдеггер отметил, что между словоупотреблением греков, которые разрабатывали свой опыт мира в терминах физики и метафизики, ориентируясь на устройство космоса, и нашим современным опытом, имеется глубокий разрыв, который определяется нашим пониманием своего бытия, влиянием души, сердца, самосознанием.
Выход философии в сферу искусства, где литература лишь часть его, в ХХ в. имеет свои особенности. На Западе современное искусство больше философия, чем искусство, заметил М. Лифшиц. Так Марсель Пруст «В поисках утраченного времени» преобразил искусство романа, введя в мир искусства идеи философов и словарь ученых своей эпохи. Х.Л. Борхес через [17] эти составляющие модифицировал эссеистику. Решение философского вопроса трансформировалось в спор, что понимать реальностью жизни. А. Моруа, вспоминая о своем учителе — литераторе и философе Алене, писал, что «мы стремились философию сделать литературой, а литературу — философией» 21. Гадамер замечает, что письмо обладает поразительно высокой аутентичностью. В нем происходит отслоение первичного речевого события (то, что мы называем литературой), а любому тексту присуща особого рода идеальность. Художественная литература, как «предвосхищающее совершенство», направлена на «внутреннее ухо», улавливающее идеальный языковый образ, который услышать невозможно. Текст опережает язык. Современная лингвистика текста задается этим вопросом (Де Ман, Деррида, Рикер). Искусство, как и литература, снимает ожидание реального события (Гуссерль). Тогда, каким образом язык присутствует в философии? Суть в том, что язык находится в своеобразном промежутке между разговорным употреблением и языковыми возможностями в плане выражения отвлеченных смыслов. Философский текст — это открытый текст, вмешивающийся в некий бесконечный диалог. Язык философии постоянно опережает себя, когда мысль стремится к выражению, она остается у самой себя в словах. «Философия и есть язык» 22. Для философа текст существует не как литература (Гадамер).
Стремление «сделать литературу философией» особенно проявилось в творчестве зрелого Т. Манна. Так, внутренняя пружина развития сюжета романа «Волшебная гора» — это философия времени. Сам Т. Манн считал «Закат Европы» Шпенглера не трактатом, а «интеллектуальным романом», где философия и литература слились, чему способствовала философская лирика Ницше. Сближение философских идей и художественных образов произошло на основе решения проблемы человека, ибо она сближает философа с художником и побуждает последнего философствовать. На рубеже веков философия пыталась понять человека, его место в бытии и его отношения с миром. Происходит радикальное изменение лежащей в основе культуры модели человека. Философия ясно проявляет свою способность не просто описывать и объяснять то, что уже есть в человеке и культуре, но творить нового человека и новую культуру. Формируется совершенно новая метафизическая модель человека и его отношений с бытием, принципиально порывающая с моделью, господствовавшей от Платона до Гегеля. С «платоновской» концепцией (человек часть всего мирового бытия, подчиненная этому бытию) соперничала «гностическая» (человек — центральный элемент этого бытия, определяющий всю эту структуру и его цельность). У Достоевского (образ Кириллова из романа «Бесы») и Ницше (образ Христа из «Антихриста») — «человеческая личность есть Абсолют», что [18] порывает её связи с абстрактным началом (субстанция, дух, Бог). Бергсон выдвигает два принципа — принцип абсолютной целостности внутреннего бытия личности и принцип неразрывного единства личности и мирового бытия. Бергсон и Гуссерль соединяются у С. Франка, у которого человеческое бытие выступает той универсальной сферой, где трансцендентный Абсолют «являет» себя в форме конечного бытия. Метафизика Хайдеггера утверждает, что «онтология есть феноменология человеческого бытия».
Дильтей, Бергсон, Ортега-и-Гассет говорят о бессознательном, инстинктивно-витальном фундаменте человека; феноменология проблематизирует чистоту и автономность структуры человеческого сознания как царства ценностей; экзистенциализм определяет индивидуальность как самодовлеющее духовное бытие в себе и для себя; фрейдистская, персоналистская, неотомистская и другие концепции, объясняющие человека или как существо сексуальное и агрессивное, или как сотворенное и управляемое богом и т.д. Все эти теории метафизически противопоставляют человека обществу, как ограничивающей силы человека. Да и человек оказывается индивидуалистически гипетрофированной личностью, противостоящей массе, народу, миру, как внеисторическая абстрактная единица.
Новейшая европейская литература предлагает модель человека, сущностью которого объявляется свобода творить самого себя. Наиболее мощным орудием творения является слово, очевидность которого и демонстрировала литература. Древняя литература показывает нам человека не отличающего от окружающего, стремящегося просто быть. Затем осознание свободы от бытия в христианстве, в Возрождение становится представление об особом характере бытия каждой личности и в мир входит человек, обладающий индивидуальностью. Просвещение говорит о становлении человека и возможности влиять на характер и систему его убеждений. Пристально изучается внутренний мир и становится новый этап творения человека — человека рефлектирующего. Этот этап продолжается от «Исповеди» Руссо до романов Л. Толстого, в которых мир личности предстает как психологический механизм, управляемый незыблемыми законами, понятными и однозначными. Познание «законов» человеческой души открыло возможность необходимости, т.е. подавления уникальности каждого отдельного человека. Рефлексия дала возможность увидеть «энергетический источник», от которого работает психологический механизм самообоснования поступков, — область метафорического сознания, неотрефлектированных душевных движений, которые никогда не претворяются в однозначные психологические представления и поступки, но которые лежат в их основе. В работах М. Пруста, Дж. Джойса, В. Вулф, У. Фолкнера и др. иррациональный метафорический слой сознания предстал в своей непосредственности. Раскрепощение метафоры взрывает устоявшуюся структуру универсума Слова и ведет к крушению традиционного образа человека как «субъекта», противостоящего «миру». После того, как были актуализированы биосоциальная, духовная [19] и телесная сущность человека, в современной литературе исчезает традиционная индивидуальность как субъективность и начинается эпоха человека, единого с бытием и выступающего творческим центром бытия.
Современная философия актуализировала спор о соотношении философии, науки и искусства. Кумиры интеллектуалов двадцатого века — Гуссерль, Бергсон, Кроче, Ницше, Кьеркегор и экзистенциалисты, Фрейд и психоаналитики, современные аналитики, герменевты, структуралисты, постмодернисты, философские антропологи и т.п. оказались связанными с развитием литературы и искусства. Эти связи — и в содержании, и в форме, и в языке, и в стиле. Художник не может представить себе возможность модели личности вне тех идей, которые предлагает ему философия. Часто идеи воспринимаются фрагментарно, в виде штампов. Современная «мозаичная» культура (А. Моль) сохраняет в тайниках сознания современного человека самые противоречивые идеи, а социокультурная таблица интеллектуальной жизни создается внеличностно. Массовая культура несет в себе анонимность, безликость.
Итак, при всем различии концепций наиболее крупные буржуазные философы все более и более эстетизируют, психологизируют предмет философии, понимая искусство, художественную деятельность как наиболее глубинную форму познания, имеющую неоспоримый приоритет перед рациональной наукой. На этой почве вырос экзистенциализм в 50-60-х гг., сущность которого в ряде принципов подхода к человеку: главное –он сначала существует, и только потом он определяется (Кьеркегор). А. Камю считал литературу единственным проводником в этом мире абсурда. Обращение к темам любви, смерти, ненависти, воли к власти закономерно, поскольку искусство может быть наличным бытием экзистенциалистского философствования, понимания личности. Мигель де Унамуно, экзистенциалистский писатель, полагал, что «наука логики» и «Критика чистого разума» как попытки создания фиктивной действительности и преодоления индивидуальной конечности человеческого бытия являются романами, а философия «конкретного человека» в его плоти и крови лучше всего может постигнуть свой предмет в области искусства, литературы, где человек раскрывается в непосредственной данности. Он писал «ниволы», которые представляли собой форму литературного изложения философии. Поэтическое высказывание абсолютизируется и понимается как философское. В предисловии к «Назидательным новеллам» Мигель де Унамуно (1920) рассуждает о самом сокровенном в человеке. Он считает, что в хорошем литературном произведении личность предстает в трех ипостасях: как она есть, как она представляется себе самой, как ее видит другая личность. Но есть и четвертая, которая хотела бы существовать, именно она и есть настоящее творческое начало и настоящая реальная личность. Только этот ноуменальный человек, носитель идеала и воли, «должен жить в феноменальном, [20] рациональном мире, в мире внешних проявлений» 23. Здесь имеется в виду, что важно самосознание человека, на что обратил внимание Достоевский, беря его в движении, неопределенности, незавершенности. Но чужие сознания нельзя созерцать, с ними можно только диалогически общаться, писал М. Бахтин и актуализовал в философской поэме «Я и Ты» М. Бубер. Эта литературная метафора реализуется Унамуно разговором автора и героя. Мы говорим о философском потенциале «Горя от ума» Грибоедова, «Маленьких трагедий» Пушкина, «Княжны Мэри» Лермонтова и «Дневника обольстителя» Кьеркегора, работ М. Пруста, Д. Джойса и А. Мердок, прозы Ж.-П. Сартра, А. Камю, М. Бланшо, П. Клоделя, У. Эко, К. Уилсона и т.д.
Уничтожение границ между дискурсивным и метафизическим высказыванием требует нового критерия и толкования такого типа знания, им выступает образец высказывания или поэтической манифестации. А. Камю и Ж.-П. Сартр, А. Мердок и К. Уилсон, Г. Марсель и Симона де Бовуар поддерживают подобную точку зрения. Последняя писала, что сущность описывается философией, но роман дает возможность выразить глубокое формирование экзистенции во всей полноте конкретной, вневременной истины. Это и есть эмпирическое основание метафизики, считает Ф. Зонтаг. Новая метафизика основывается на психологическом опыте и с ним тесно связан литературно-художественный опыт, «инсайт» 24.
Структурализм ввел в литературу и философию науку о речи (Р. Барт). Произведение рассматривается как система знаков и философская критика открывает и придает смысл тому, что оно говорит. Художественная практика растворяется в теории и критике и совпадает с ней, поэзия сводится к поэтике, художественное познание — к инструменту познания. Искусство становится не более чем одной из систем знаковых отношений. Поскольку средством коммуникации служит язык, то возникает вопрос отношения философии и языковых форм искусства. Философская речь застревает на приведении формальных аргументов или впадает в пустую софистику, как и псевдо поэзия (Гадамер). Редакция журнала «Тель Кель» заявила, что литература — производное от философии. Жак — Люк Нанси, Лаку-Лабарт вообще заявляют, что философия и есть литература. Постмодерн часто развивает эту точку зрения. Наиболее оригинальным здесь можно признать Поля де Мана, теоретика деконструкции в Америке. Текст мыслится интертекстуально, как игра сознательных и бессознательных заимствований, цитат, клише. Здесь реальность конструируется производно из тех концептуальных схем и текстуальных стратегий, которые зависят от расовых, этнических, сексуальных ориентаций, от властных позиций и устремлений. Личность, авторство — не более как иллюзия сознания или условные конструкции, за которыми действуют механизмы знаковых систем, языка, бессознательного, [21] рынка, власти, и т.п. Постмодерная чувствительность, культурные умонастроения и метафоры, художественные рынок, ритуалы, ценности оказались в центре философии. Через ироничность, эклектичность, гипотетичность, пародийность и т.п. пытаются рассмотреть соотношение философии и литературы во всеоружии экономических методов, теории хаоса, власти… Общий субстрат человеческого опыта заменяется множеством знаково произвольных и относительных картин мира. Человек создает свою реальность, как месть той реальности, которая обходится без него.
В американском деконструктивизме/постмодернизме, превращенном И. Хассаном и П. де Маном в широкую концепцию культуры, язык — как божество интеллектуальной элиты — стал сущностью сознания. Сознание ограничивается языком, его связи с многозначной и неуловимой реальностью повисают, а соотнесенность языкового мышления ставится под вопрос. Язык как семиотическая система любого искусства, как и язык дорожных знаков, моды, математических символов в постмодернистском понимании духовного мира человека стремится свести их к литературному осмыслению, рассмотрению любого произведения искусства как «текста», как «письма». Это ведет к экспансии литературоведов в сфере искусствознания и подстраивание искусствоведов под литературоведческие схемы концептуального подхода к искусству. Способствуют этому философы языка — Витгенштейн, Хайдеггер, Мерло-Понти, Фуко, Деррида, Де Ман, Лиотар, Кристева, Сёрль…
Деконструктивизм как аналитико-критическая практика теорий постмодерна видит единственную конкретную данность «текстов» любой эпохи, специфическую власть языка произведения в «авторитете письма», способного своими «внутренними» средствами создавать самодовлеющий «мир дискурса» для литературы. (Ф. Джеймисон «Идеология текста» (1976), Р. Барт «Фрагменты речи влюбленного» (1977), У.Б. Майлз «Спасая текст: референция и вера» (1978), Деррида «Деконструкция и критика» (1979), Де Ман «Аллегории чтения» (1979). Этот мир не соотносится с действительностью, не проверяется практикой чувственно-предметной деятельности, а интертекстуально обосновывается другими текстами. Писатель осознает собственную двусмысленность и ограниченность царством вымысла и письма. Ральф Флорес посвятил этому феномену книгу «Риторика сомнительного авторитета: деконструктивистское прочтение самовопрошающих повествований от Св. Августина до Фолкнера». Художественное произведение оказывается полем столкновения трех самостоятельных сил: авторского письма, читательского понимания и семантических структур текста, причем каждый из них навязывает свой «модус обозначения» (смысл описываемых явлений и представлений). (см. романы — Дж. Фаулз Женщина французского лейтенанта, Мантисса, Волхв; У. Гоулдинг Бумажные люди; Дж.К. Оутс Ангел Света; Р. Федерман На ваше усмотрение; [22] работы М. Бланшо). В мире живописи этим средством является иконографическая стилистика, разработанная Эрвином Панофским (1939).
«Постсруктуралистское письмо» работает по шести альтернативным принципам композиции (Д. Лодж): противоречивость, изменение, прерывистость случайность, избыток, и «короткое замыкание». Дистанция между текстом и реальным миром, искусством и жизнью преодолевается через эпатаж читателя, слушателя, зрителя, не дающее ему возможности ассимилировать «постмодернистское письмо» традиционными категориями искусства. Конституируется новый эстетический стиль, исповедующий гибкость, учитывающий всю гамму интересов и ценностей, свободного общения как с фикциями, так и с реалиями. Так, в литературе это достигается постоянным сочетанием в одном произведении фактического и фиктивного, известного со времен Сервантеса и Стерна. Расширяется внефабульное пространство (М. Бланшо, А. Роб-Грийе, У. Эко, Лаку-Лабарт, Люк-Нанси, К. Уилсон и др.). Сам дискурс интерпретируется как семиотический процесс, реализующийся в дискурсивных практиках (на уровне бессознательных или ритмических конструкций), организующих речевую деятельность (письменную или устную), или стиль 25.
Если посмотреть на взаимосвязь философии и языка, прорыв в их связи был совершен тогда, когда пала фундаментальная онтологическая идея классической метафизики и философия попыталась вернуть онтологической картине мира связность через обращение к пространству языка, который уже самостоятельно продуцирует и эксплицирует свое содержание, это «дом бытия». Это предполагает обращение к прагматическим аспектам, к формам языка в нефилософских видах деятельности (поэзии, литературе, искусстве). Гадамер высказывает весьма точную мысль, что язык сегодня представляет собой тот философский предмет, где происходит встреча науки и опыта человеческой жизни 26. Мир постклассической философии оказывается развернуто вовлечен в естественно-языковое пространство, а философские концепции приобретают лингвофилософское звучание. Но философский дискурс начинает размываться, терять свою метафизическую замкнутость.
Взаимное отталкивание классической метафизики и лингвофилософии приводит к образованию пространства вопрошания о языке, где последняя оформляется в некую школу со своим категориально-методологическим аппаратом. Лингвофилософия тяготеет к теоретическому языкознанию и не случайно британский философ-аналитик, основоположник теории речевых актов Дж. Остин становится общим авторитетом в симбиозе философии и лингвистики. Это и стало отправной точкой трансформации философии и деконструкции: лингвокритика обнаружила противоречивый характер [23] у метафизического языка предметного денотативного поля, как и неоднозначность саморазвертывания языковых пространств, где читатель оказывается в ситуации выбора и перебора. Постмодернистские автогерменевтические моменты интерпретации текстовых составляющих, моделирование текста и его развертывание высветили и зыбкую границу между инсайтом и комбинаторикой, способствующую оборачиванию мест в картине мира, а тем более в тексте. Сама лингвистика оказалась крепко связана с генеративным направлением (Н. Хомский), развивающимся в духе трансформационных и порождающих грамматик, который вскоре вышел за пределы собственно лингвистики, а с середины 70-х стали говорить уже о постгенеративизме (Дж. Серль, Ф. Ньюмейер, Дж. Катц) 27.
Однако важно отметить отличительные черты новой парадигмы знания, среди которых приоритет гипотетико-дедуктивного подхода к языку, перемещение в центр грамматики синтаксиса и синтаксических отношений (вместо фонологии и морфологии) и признание их неотъемлемыми компонентами грамматики, провозглашение креативного характера деятельности с языком и пристального изучения подобной стороны говорящего, анализ языка как феномена ментального, феномена психики человека. Порождающая грамматика отстаивается Де Маном как совокупность фонологического, семантического и синтаксического компонентов, а язык (языковая активность — перформанс) признается когнитивной составляющей человека. Вот почему появление коммуникативной прагматически ориентированной лингвистики было связано со стремлением продемонстрировать важность учета всех факторов в процессе порождения и понимания речи, текста. Произошло смещение интереса от дескрипции системных свойств языка к пониманию языка в голове говорящего, к ментальной организации, к преображению облика грамматики и ее взаимосвязей. Лингвофилософия переходит за ее пределы в область познания, эстетики и т.д., становится лингвогносеологией, лингвоэстетикой, психолингвистикой…
Функциональный подход к языку при этом представляет определенную важность, что ведет к признанию огромной роли для всей лингвистики категории значения, а его связь с когнитивизмом устанавливается через понятие репрезентации, или представления того или иного знания. Неофункционализм (конструктивизм), или интерпретирующая парадигма знания, уже более сложно понимает язык посредством коммуникативного акта, иллокутивных целей высказывания, обращение к интериоризированным механизмам речи, приписывания единицам языка функций и т.д. Де Ман указывает, что невозможно описать релевантные свойства языка вне обращения к смежным наукам и проблемам. Что касается литературоведения и эстетики, то необходима смена ориентиров, которые он и демонстрирует, ибо понять языковую структуру — значит проинтерпретировать смысл достигнутого [24] осознания не только в грамматических фактах, а и соотнести текст с миром посредством конверсации, что позволит выявить эстетическую и культурно-нравственную сущность подлинно человеческого.
Однако, словесное искусство, которое благодаря универсальной приспособленности своего материала (языка) для отражения внутренней жизни сознания «оказывается, — по словам Гегеля, — тем особенным искусством, в котором одновременно начинает разлагаться само искусство, и в котором оно обретает для философского познания точку перехода… к прозе научного мышления» 28. Надо отметить и то, что в психологии до сих пор остается открытой проблема существования невербальной, чувственно представленной мысли, так что попытки реставрации в мировой практике цельного теоретического мировоззрения, отрефлектированного, например, в музыке (аналогии между диалектикой Гегеля и логикой композиций Бетховена), больше интересны, чем научно аргументированы. М.К. Мамардашвили писал по этому поводу: «искусство словесного построения есть способ существования истины, действительности и что ее нельзя внушить научением, и она не пред-существует в готовом виде» 29, что художественный текст — мучительный, проходимый автором путь приобщения к ускользающей реальности человеческого мира открытому бытию.
С другой стороны, не стоит отрицать причастность к философской рефлексии работ, в которых с внеэстетической целью используются готовые идеи, а автор выступает то в роли моралиста, то политолога и т.п. А.В. Гулыга даже выделяет литературу XX века как «типологизирующую» (в отличие от классической «типизирующей»), в которой чувственная конкретность художественного образа уступает место понятийной, логической, порождающей самостоятельный маргинальный жанр — научную фантастику, представляющей (например, у Колина Уилсона) метафорическую форму верификации авторских теорий и гипотез философского характера. Здесь идея легко выводится из произведения. Есть тип «философствования посредством литературы», в котором автор представляет некую деперсонифицированную философскую идею, играющую в творческом процессе роль собственно художественной и делающую произведение просто тенденциозным. Здесь проявляется даже не переход от искусства к неискусству «прозы научного мышления», а к имитирующей искусство форме функционирования философско-теоретического знания (см. «Митин журнал»). Она заменяет собой неотъемлемость развития эстетического переживания в пространстве внутренней жизни писателя дидактикой просветительского «романа воспитания» и как литература соцреализма может оказать огромное воздействие на общественное сознание. Но в отличие от собственно искусства, такие [25] произведения преходящи и длятся в историческом потоке культуры как «глазные забавы» 30 лишь до тех пор, пока в социуме сохраняют ценностную актуальность породившие их социософские, религиозные и прочие идеи.
В реальном историко-художественном процессе философское знание, предшествующее художественной деятельности, усваивается и претворяется ею столь активно, что в произведении оказывается либо совершенно неразличимым, либо сохраняющимся по видимости, в функции некоего слоя — философски значимого рассуждения, но как таковое уже теряет себя, наполняясь новым, сообщенным ему как части качественно иного целого, содержанием. Ницше замечает, что произведение искусства может включать в себя и эстетически нейтральные компоненты в качестве композиционно необходимого элемента. Здесь ключ к пониманию того, что писатель нуждается в теоретической философии отнюдь не как в источнике готовых идей и ответов на неизбежные вопросы о сущности человека и смысле существования. Р. Барт пишет по этому поводу, что «для писателя вопрос «почему мир таков?» полностью поглощается вопросом «как о нем писать?», но самое удивительное, что на протяжении веков такая нарцисстская деятельность служила постоянным стимулом к вопрошанию мира; замыкаясь в своих заботах о том, «как писать», писатель в итоге неизбежно приходит к самому открытому из вопросов: «отчего мир таков?», «в чем смысл вещей?» 31. Разница только в том, что ответ философа изъят из ценностного контекста его индивидуально неповторимой жизни, а ответ писателя вплавлен в этот контекст его произведения, просвечивает сквозь него. Триумф разума, преодолевшего рамки единичного человеческого бытия, в ответе философа сопоставим с ответом-намеком писателя, в котором сквозит тоска по неизведанному, неизмеримому богатству жизни. Достаточно редко но они соединяются у отдельных писателей-мыслителей 32. Эти способы постижения человечески значимых истин отражены Кантом в определении эстетической идеи, как «представления воображения», дающего повод много думать, но никакое понятие не может быть адекватным ему, следовательно, «никакой язык не в состоянии полностью достигнуть его и сделать его понятным» 33.
Вывод таков: художественное (литературное) произведение в качестве предмета историко-философского анализа предстает как эстетически организованная система смыслов, отличающихся многозначностью. Под это определение можно подвести в принципе любое произведение, удовлетворяющее [26] требованиям художественности, даже постмодернистские произведения, поскольку творимый писателем мир требует не столько притязания на обоснование своей единственности, сколько претензии на всеобщность в своих книгах-поступках. В новоевропейском историко-философском процессе в этом смысле всегда есть примеры высокого уровня концептуальной зрелости писательского вопрошания (Толстой, Достоевский, Пруст, Кафка, Сартр, Камю, Бланшо, Борхес, Кортасар и др.). Здесь уже есть резон говорить о литературе-как-философии. Если предметом поэзии, словесности как вида искусства являются «деяния», т.е. поступки вообще, то предметом литературы-как-философии является совершенно специфическая и трудно объективируемая в формах самой жизни разновидность поступка — поступок-мысль, мысль как поступок героя произведения. В этих случаях мы имеем дело уже с маргинальным текстом близким более к теоретической философии, чем к искусству, родом философствования, который назван С. Великовским как «лирический» 34, и к которому относятся эссе Кьеркегора и Камю, работы Ницше и Делеза, Бубера и Унамуно.
Правда, следует отметить, что существуют и другие точки зрения. Так, например, Р. Рорти называет «интеллектуальной историей» произведения Эриугена, Дж. Бруно, Х. Вольфа, Д. Дидро, А. Шопенгауэра, А. Бергсона, Дж. Остина, как и мыслителей, чей род деятельности и творения пограничны с философией (сюда относятся Парацельс, Монтень, Гроций, Бейль, Лессинг, Кольридж, А. Гумбольт, Эмерсон, Т. Хаксли, М. Вебер, З. Фрейд, Ф. Боас, Д.Г. Лоуренс, Т. Кун и др.). Они выполняют то, что фактически выполняют философы, т.е. побуждают к социальным реформам, предлагают новые направления развитию науки и философии 35.
«Мир, где действительно протекает, совершается поступок, — по Бахтину, — единый и единственный мир, конкретно переживаемый: видимый, слышимый, осязаемый и мыслимый, весь проникнутый эмоционально-волевыми тонами утвержденной ценностной значимости. Эта утвержденная причастность моя создает конкретное долженствование — реализовать всю единственность, как незаменимую во всем единственность бытия, по отношению ко всякому моменту этого бытия, а значит, превращает каждое проявление мое: чувство, желание, настроение, мысль — в активно-ответственный поступок мой» 36. Герой, в этом «мысле-поступке», несет эстетическую и философско-культурную нагрузку, а ценностное содержание культуры и есть то общее, что сближает, роднит между собой искусство и философию.[27]
В теоретической философии процесс переживания мысли не рефлексируется, но его предметная направленность всегда насыщена ценностным «воздухом» культуры 37. Поэтому философское знание ближе к тому культурному полюсу, в котором ценность обретает свою завершенную конкретно-чувственную — эстетическую — форму, оно внутренне обременено интенцией перехода в то, что Шеллинг называл «поэтическим». Таким образом, можно говорить уже о философском искусстве, о чем впервые в эссе «Философское искусство» писал в 1868-1869 гг. Ш. Бодлер. Рассматривая особенности некоторых художественных произведений, он увидел тенденцию (по сути — «извращение» и «заблуждение»), что, чем сильнее искусство будет тяготеть к философии, тем оно больше будет деградировать. Оно, тем самым, будет отказываться от выполнения своих неотъемлемых сущностных функций — познания и отражения действительности, эстетической, гедонистической, воспитательной, аксиологической и прочих функций, о которых писал еще Платон. Подобная оценка «работает» в контексте традиционной европейской культуры, поскольку обоснованная функциональность искусства в обществе, еще с Платона, разъединяет искусство и науку, искусство и философию.
Отмеченная Бодлером в работе о Делакруа тенденция в дальнейшем получила разнообразные обоснования в теоретических концепциях художественного творчества, которые все больше тяготеют к постановке метафизических проблем. Искусствознание последних десятилетий почти усвоило дискурс современной философии, а написание философских текстов стало искусством. Сами философы все чаще стали писать об искусстве и деятелях искусства: М. Хайдеггер пишет о Гельдерлине, Ж. Батай о Блейке, Саде, Прусте, Ж. Деррида об Адами и Арто, Ж.-Ф. Лиотар о Дюшане, М. Мамардашвили о Прусте, М. Ямпольский о Чехове, В. Подорога о Кафке. Ж. Делез — автор двухтомного исследования о кино — замечает, что после «смерти философии», которая, по его мнению, по всему пространству культуры, можно будет находить философию в кино. Он сравнивал великих режиссеров с философами, мыслящими с помощью образов вместо понятий. Подобный подход в оценке крупнейших деятелей искусства мы находим у А. Арто, считавшего Ван-Гога не только гениальным живописцем, но и гениальным философом.
Конечно, искусство изначально было связано с проблемами, которые мы называем философскими проблемами бытия, смерти, трансцендентности, истинности, вечности — таково магическое искусство древности. В ХХ веке с крушением прежней эпистемологической картины мира, были ликвидированы границы между наукой, философией и искусством, а противопоставление искусства и философии А. Камю объявил ложным. Писать роман философствуя, призывал не только Камю, но Т. Драйзер, [28] Ф. Дюрренматт, С. де Бовуар. На особые взаимосвязи между художественным и философским сочинениями указывал Г. Марсель — персонажи театра часто предвосхищали его философские построения. «Философской драматургией» называют произведения Э. Ионеско 38. Дело, видимо, и в том, что «возникла необходимость в развернутой аргументации, обстоятельном философском осмыслении проблем искусства средствами самого искусства. Философия искусства превращалась в художественное творчество» 39. С другой стороны, проблемы литературы и искусства оказались взаимосвязаны с проблемами идеологическими, политическими, экономическими и т.п. Произошла и десакрализация искусства, поднятого романтиками над наукой, политикой, философией. Закономерно, что и философское эссе стало надежнее приближать к истине в ее материальном воплощении. Художественная идея, содержащая в себе философский потенциал, отражается в соприродной себе, представляющей ее понятийный аналог, философской идее — в контексте той или иной культуры, взятой как целое. Так литература-как-философия и теоретическая философия конструируют некую систему глядящих друг в друга зеркал. При изучении философской культуры народа, региона и т.п. необходимо постоянно держать в поле зрения эту их комплиментарность. Философская новелла и повесть, у истоков которой стояли Вольтер и Свифт, развивается потому, что нет границ между различными видами духовной деятельности человека. Таким образом, бергсонианство так же неполно без Пруста, как и классическая септалогия последнего вне бергсонианства.
Историко-философский анализ произведения искусства (в отличие от эстетического) изначально полагает чувственно воспринимаемую сторону произведения во всем объеме, от авторской фразы до облика героев, проницаемой, представляя существенным только отрефлексированный в содержании тип сознания. Само выведение формы (чувственной стороны произведения) «за скобки» становится прологом передачи художественной идеи на язык логического дискурса (путем освобождения ее от субъективности). Отойдя на некоторое расстояние от безбрежной свободы художественного образа произведения, историк философии, заполнив это пространство философско-теоретической рефлексией соответствующей эпохи, контекстом, приобретает возможность свести свободу до характерных черт. Это не просто «дильтеевское вчувствование», которое есть скорее удвоение, отождествление себя с равновеликим себе другим, а эстетически-творческое, раскрывающее свой предмет исследования (героя) со всех сторон, завершающее [29] его неизвестной ему (при жизни) его культурной перспективы, со-чувственное отношение (когеновское «симпатическое переживание», бахтинская «эстетическая любовь»).
Значит, историко-философский подход всегда содержит в себе момент эстетической деятельности, поскольку в принципе невозможно любое философское суждение очистить от тончайших смысловых нитей, которые уходят в ценностный контекст жизни его автора. Часто историка гораздо меньше интересует отношение теории какого-то философа к его личному жизненному пути, чем ее отношение к теориям настоящим и предшествующим в историко-философском процессе, а вот помыслить, скажем, ницшеанство «в чистом виде» (в отрыве от жизненной драмы самого Ницше), остается делом чрезвычайно затруднительным 40. Вот почему М. Хайдеггер как историк философии предпочитал брать исследуемые персоналии в «их неосуществленных возможностях». Личностная незаурядность философов остается подчас в тени результатов их профессионального творчества, в то время как именно этот фактор никогда не останавливал их только на морализаторской форме этики, а вел к исследованию таких проблем, которые на каждом этапе были способны выполнять функцию нравственной философии. Без вхождения этой культуры во внутренний мир личности, без нравственно-философского самоопределения проблематичен поступок личности, в котором совместился потенциал субъекта истории и субъекта культуры.
В этом плодотворном подходе, исторически разворачиваемая философская культура, наделенная всей полнотой и теплом человеческой жизни, конечно же, несравненно богаче истории письменно фиксированных философских идей, доксографии, поскольку культура — возможная необходимость, а история — необходимая возможность; культура — диалог-экспромт, а история — уже прочитанный монолог 41. При этом необходимо отметить, что от историка требуется высшая степень личностного неравнодушия, которое является достоянием развитого эстетического сознания: вхождение в философскую культуру включает в себя философскую теорию, искусство и множество других, не всегда принимаемых в расчет, сливающихся в духовном контексте эпохи способов вопрошания человеком мира о первых основаниях своего бытия. Следовательно, возможность историко-философского анализа произведения искусства обеспечивается как «взаиморастворимостью», комплиментарностью литературы и философии в ценностном контексте культуры, так и имманентно присущим историко-философскому видению эстетическим началом.[30]
В той мере, в какой произведение искусства или философская концепция принадлежат определенной культурной формации и тем более выражают ее специфику, мы можем игнорировать их генетические связи и рассматривать их в качестве непосредственного данного 42. Неклассическая установка позволяет увидеть эстетическое в структуре процесса универсализации человеческой природы как сущности космического порядка. «Онтология эстетического» (Н. Кормин) объединяет «эстетическое бытие человека и общества в его историческом многообразии и динамике» и онтологию искусства, открывается «как особая форма активности, реализующая в себе усилие человека быть свободным, быть «наедине с богом», творить мир, нравственно очищать свое существование» 43. Внимание к тому, что можно определить как телесность, телесное бытие интеллекта (по М. Мерло-Понти), служит обоснованием универсальности «антропологической эстетики» на основе трактовки эстетического как герменевтики, поскольку эстетическое есть «память чувств», а природа исполнена «человеческого смысла».
Поисковый потенциал постмодернистской эстетики обусловлен активным воздействием искусства на науку и ее конкретные прикладные области и влиянием единого научного пространства и новых технологий на развитие искусства. Открытие асимметрии гемиосфер, эйдетической и проективной памяти позволило связать их с функциями различных органов чувств, перейти от понимания взаимодополнительности эстетического и логического начал в интеллектуальном творчестве к признанию единого фона и общего основания уникальной способности образно-логического мышления.
Эстетическая проблематика вызвала к жизни новое междисциплинарное направление научных исследований — нейроэстетику, которая синтезировала нейробиологию, биохимию мозга, физиологию сенсорных систем, материалы этологии и культурной антропологии. Синергетика как наука о самоорганизации придала новые импульсы изучению эстетического. Положения синергетики об универсальности процессов организации материи, об их вероятностно-детерминированной совокупности, направленной на превращение хаоса в порядок, легли в основу «негэнтропийного» (упорядочивающего) понимания роли эстетического сознания и эстетической деятельности, при котором универсальность красоты обосновывается включенностью ее в магистральный путь движения развития, а онтология мира раскрывается через гармонию. Теория самоорганизации послужила методологическим ключом для построения теории динамической красоты (Ф. Кремер и В. Кемпфер): предлагается концепция процессуальности космоса, мира, человеческой психики и произведений искусства, которые представляют собой корреспондирующую систему основных форм движения. Красота в искусстве — [31] схваченное мгновение. Развивается экологическая эстетика, задача которой состоит в концептуальном исследовании окружающей среды в ее универсальной, динамической целостности. Искусство и природа принадлежат единому эстетическому полю 44.
Не без влияния экологической эстетики сложились концепции природно-художественной целостности с ее поисками новых форм синтеза традиционных видов искусства и природы (метафизика ландшафта, балет в ландшафте) и «глобальной эстетики», трактующей единство природы и космоса как художественное произведение. Эстетическая интуиция мира обретает особый смысл во время граничной, кризисной ситуации, когда создается реальная угроза разрушения биогенетических предпосылок человеческого бытия. Экологическая эстетика явилась тем ответом, в котором постмодернистская мысль стремится к разрешению трагической напряженности культуры и природы на путях неклассической установки универсализации эстетического, охватить все живое — человечество, природу, космос.
Пытаясь преодолеть разрыв между потоками современной культуры — научной, гуманитарной наукой и искусством — в едином пространстве-времени синтезируется философское, научное и художественно-мифологическое познание (М. Серр). Порожденный классической рациональностью путь насилия над природой вызвал энтропийные процессы, противодействовать которым могли только труд и художественная культура, утверждавшие человека равным природе. Отказ от насилия, артикуляция мира вещей и природы, независимых от человека, характеризуют постмодернистскую ситуацию в науке, эстетике, искусстве, литературе. Эстетика не только пытается соединить науку и искусство, освоив шедевры искусства, а регулировать тончайшие процессы самого творческого процесса, целостного обогащения человеческой чувственности. Не здесь ли скрыта проблема постмодернистского сознательного стирания границ между высоким и массовым искусством, народной культурой и фольклором. В поле зрения эстетики попадает повседневность, тривиальное, банальное, маргинальное и их смысловые характеристики 45. Оказалось, что эстетика обыденного имеет длительную (но не всегда «писаную») историю. Она хорошо раскрывается в искусстве дальневосточного региона с его тенденцией минимализации и установкой на стирание граней между творением художника и реальностью. Отрицаемое ранее мещанское и обывательское было переосмыслено И. Кобри, как культура интровертная, интимная, комплиментарная по отношению к природе, как выражение «духа семьи», как «экология жизни», которую глубоко раскрывает литература 46.[32]
Литература и эстетика повседневности показывают и объясняют смысл и значение многих привычных, рутинных или праздничных, неординарных событий, форм общения, поведения, вещей и предметов, окружающих человека 47. Объявить манифестацию китча как проявление «потребительской цивилизации» недостаточно, ибо здесь наблюдается скорее сложение разных субкультур, возникающих на основании различных профессий, образования, общественного положения, возраста. Профанная и высокая культура имеют взаимопереходы, «инновационный обмен» (Б. Гройс), рекомбинации стереотипов эстетического сознания, которые, по У. Эко, возвращают в искусство фабулу, фигуративность, критерий удовольствия. Этим пользуются писатели Фаулз, Кортасар, Ж. Перек.
Ж. Бодрийяр считает, что нарушен «тайный код эстетики, что «операционные формы», эстетизируя все банально- маргинальное убожество мира, сообщая ему «эстетическую прибавочную стоимость знака», влияют на отношения потребления. Значима становится не вещь, а идея отношения через серию вещей, которая ее проявляет, образуя новый язык и культуру, «новый гуманизм» потребления 48. Складывается «набор имиджей», семиологическая организация, в результате чего возникают симулякры — образы-двойники, подделки, поглощающие, вытесняющие реальность; исчезло то, что отделяло искусство от простого продуцирования эстетических ценностей, искусство вступило в трансэстетическое поле симуляций 49. Литература ответила культивацией невероятной запутанностью культурных знаков, кодов, несводимостью к идеологической доминанте, метароманами, мобильными малыми формами, риторичностью.
Появление нетрадиционной проблематики изменяет конфигурации философии, литературы, искусства, эстетики, по иному расставляются акценты в сознании и его структуре, выдвигая перед педагогикой задачу воспитания, а не социализации (П. Рикер), как и в философии «образовательную», или «наставительную» ее суть (Р. Рорти). Благодаря рационализированному пониманию бессознательного, более стереоскопичным стало представление о художественном творчестве, творческом процессе; поворот от семиотики к семантике способствовал активизации интереса к содержательной стороне искусства (У. Эко). Однако, по мнению Джеймисона, отсутствие антропоцентричного субъекта в постмодернизме порождает изображение во имя самого изображения, способствует порабощению искусства постиндустриальной корпоративной ментальностью, возводят искусство в ранг фетиша, манипулируемого культурной индустрией, основанной на логике капитала. [33] Об этом пишут Ж.Ф. Лиотар, Ж. Бодрийяр и др. С другой стороны, метафизика, по меткому замечанию Розеншток-Хюсси, должна уступить место металогике, метаэтике, метаэстетике, которые будут интерпретировать человека как живого, природного существа, способного подняться над природой благодаря речи 50. Рефлексивный характер философского знания дает основание определить философию, искусство и литературу как системную рефлексию по отношению к размышлениям о Бытии сущего, всего имеющегося, в том числе и человека. Причем эта системность исторична, открыта, становящаяся т.е. включает наряду с различными вариантами видения мира и тайну еще невидимого.
При этом хотелось бы отметить и позицию постаналитиков конца ХХ века по отношению к философии и литературе. Они полагают, что помимо кантовских догм эмпиризма и эпистемологизма, требует опровержения и заданное им различение науки, морали и искусства. Д. Рэджчман во введении к сборнику «Философия в Америке» заявляет, что аналитической философии не удалось обосновать различие факта и языка, найти критерии соизмеримости различных языковых каркасов и это наводит на предположение об отсутствии демаркаций между наукой, философией, литературой, искусством и политикой. Этот отказ от разграничения развивается в движении к дедисциплинарности, отличающегося от междисциплинарного тем, что создаются амальгамы: философско-литературная теория, философия-история науки, философско-моральные публичные дискурсы, философия языка — философская антропология и т.п. Можно предположить, что эта тенденция к разрушению границ может повернуть философию в новое русло.
Как мы видим на практике, в последние десятилетия интенсивно самоутверждается амальгама философия-литература, философия-как-литература. Ее поддерживают новые веяния в американской «новой литературной критике», связанные с новациями французского структурализма, постструктурализма и постмодернизма, и необычными трактовками феноменов слова, письма, чтения, традиции, текстов, автора. Теоретики литературы применили стратегию герменевтической интерпретации текста не только к поэзии, научной фантастике, граффити и медицинским и кулинарным рецептам, но и к философскому письму. Эта стратегия вызвала интерес ряда философов, которые высказали предположение, что теоретики литературы, как и философы, по сути дела ведут те же самые споры о реализме и релятивизме, значении, референции и т.д., отметив, что между тезисом Деррида «нет ничего за пределами текста» и теорией «концептуальных каркасов» много родственного. В результате они попытались посмотреть на саму философию как жанр литературы.[34]
Так Артура Данто в статье «Философия как (и) литература, философия литературы» пишет, что до недавнего времени не замечался специфический ракурс философии, как жанра литературы. При этом речь идет не литературной форме философского дискурса, о метафилософских проблемах, о сопоставлении и противопоставлении образа «философии-как-литературы» и образа «философии-как-науки». Не отождествляя себя с наукой, профессиональная аналитическая философия как правило тяготела к образу «философии-как-науки», дистанцируясь от не претендующей на строгость гуманитаристики. Столкнувшись с «фривольным садизмом деконструктивизма» 51, она почувствовала свою уязвимость, ибо принятие образа «философии-как-литературы» уравнивает философские тексты со всеми другими текстами и может иметь далеко идущие последствия. Так, например, безысходные дискуссии об истине и референции могут перейти в совершенно иную плоскость отношения текста и потребителя текста. А. Данто выступает против точки зрения деконструктивистов, утверждающих самодостаточность литературы, когда «тексты соотносятся только с текстами», а не с реальностью. Идея Т. Куна о сообществе исследователей, интерпретированная в широком плане как сообщество потребителей того или иного жанра литературы, в приложении к литературе своим результатом имеет тот факт, что референтом, с которым соотносятся положения философской литературы, признает круг читателей, их опыт, интересы и оценки. Так сообщество читателей выступает онтологически первичным понятием, ну а «философский способ соотнесения литературы и реальности может сделать философию-как-литература тем же самым, чем была философия-как-истина» 52.
Однако американские постаналитики, обратившиеся к теме философия-как-литература, воспринимая отдельные идеи постмодернизма, структурализма и герменевтики, одновременно дистанцируются от них, предпочитая говорить с «американским акцентом». Анархистский и леворадикальный максимализм Деррида, стремящегося размыть границы между философией, литературой и критикой, столь близкий литературному авангарду, творчеству Малларме, Арто, Батайя, Жабеса, Соллерса, Джойса, и его попытки сблизить философию с литературой и риторикой никак не укладывается в прагматические рамки постаналитиков. Вот почему идейные основания они чаще всего разыскивают не у Хайдеггера, Витгенштейна и Деррида, а в собственном культурном наследии, у к Куайна, Куна, Дэвидсона. Стенли Кейвл предлагает обратиться к до-аналитическим американским корням «философии-как-литературы, присущих Эмерсону, прагматистам, [35] обосновывавших возвращение философии к «полноте опыта», морально-эстетическому переживанию действительности.
С другой стороны, они полагают, что изощренные попытки Карнапа, Поппера, Куайна, Хомского и др., так и не смогли установить эмпирические основания знания. Напрашиваеися вывод, что здание философии (как и науки) не имеет естественного фундамента, оно — «без корней», «висит в воздухе». Следовательно, формы интеллектуальной деятельности представляют собой артефакты, определяемые социальной и исторической стихией языка. Таким образом, многообразные философские проблемы, споры об отношении концептуальных схем и реальности, парадигмах и несоизмеримости —не больше, чем «языковые игры», без естественных оснований и теоретических значений. Сама же философская рациональность оказывается проекцией языковых и социальных установок.
Разрушая таким образом эмпиризм американские постаналитики, по их мнению, утверждают свободу от накопленного в философии бремени догм, норм, методологий, дисциплинарных канонов, стереотипов профессиональной работы. Эта новая постэмпирическая идеология предлагает легализовать любые дискурсы и строить какую угодно виртуальную реальность, оценивать работы в сопряжении с контекстом, с нормами общества и принятыми в нем установками: психологической убежденностью, прагматическим верованием, эстетическими предпочтениями. Философия, избавившись от вечных проблем и сковывающих ее гносеологических стереотипов, получит новый статус (если не слишком определенный, то прочный и свободный) в культуре — «литературы», «коммуникации», Lebenswelt. Подобный «революционный» шаг, по мнению постаналитиков, благотворно скажется на религии, литературе, искусстве: они имеют шанс восстановить былой статус, во всяком случае добиться паритетности. Восстановится в правах спекулятивный стиль рассуждения, риторика, жанры политической, культурологической и литературной эссеистики.
Смелые интеллектуальные проекты постаналитиков историзации, беллетризации и романтизации философии, превращения ее в практически работающий разум, вызвали ответную реакцию со стороны академической профессиональной философии в целях рекламы жизненности собственной версии философии. Во времена кризиса их ореола научности, связанной с острой внутрианалитической критикой в отступлении от американской ментальности, забвении целей гуманизма, отрешенности от нужд общества, неучастии в публичных дебатах, и т.д. аналитики вынуждены прибегнуть к самооправдательным контраргументам. Поскольку последние четверть века аналитическая философия существенно отличается от той, какой она была во времена Рассела и Карнапа, для ее оценки имеет смысл прислушаться к самооправдательным контраргументам апологетов. Первый состоит в обвинении постаналитиков и постмодернистов в том, что они, собрав воедино разнородные идеи, так и не сформулировали развернутой теоретической [36] системы контраргументов против профессиональной философии. Джон Серль пишет: они все свели к ощущению устарелости «Западной Рационалистической Традиции» и не смогли предоставить достойных аргументов против, объявив, «что мы живем в постмодернистскую эпоху, …как будто это смена погоды, не нуждающаяся в доказательствах» 53. Однако нормы рациональности и идеалы истины «работают» в естествознании, экономике, инженерных наука и философии, а опровержение исходных посылок и обоснование альтернатив различными группами в аналитической философии — нормальная жизненная самокоррекция ее сущности. Возможно, что «лингвистический поворот», раскрывший откровения коммуникации с миром, сменится каким-либо другим, связанным с литературой и искусством. Однако в эпоху технотронной культуры маловероятно, что «романтическая гуманитаристика» с «прерывистым и противоречивым языком мерцания» 54 надолго останется без конкурентов. Однако «литература» — «просто–напросто величайшая верность бытию» и она имеет смысл там, где наука недостаточна 55.
- [1] См., например, Тишунина Н.В. Западноевропейский символизм и проблема взаимодействия искусств: опыт интермедиального анализа. СПб. РГПУ. 1998; Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М., 2000.
- [2] Линцбах Я. Принципы философского языка. Пг., 1916; Михалкович В.И. Изобразительный язык средств массовой коммуникации. М., 1986
- [3] Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: в 2-х Т. М., 1970. Т. 2. С. 212.
- [4] Маймин Е.А. Русская философская поэзия. М., 1976. С. 185-189.
- [5] См.: Долгов К. Кризис буржуазного философско-социологического сознания // Борьба идей в эстетике. М., 1974. С. 127-159.
- [6] Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М., 1990. С.78.
- [7] см.: Маньковская Н.Б. Художник и общество. Критический анализ концепций в современной французской эстетике. М., 1985.
- [8] См.: Маньковская Н.Б. «Париж со змеями» (Введение в эстетику постмодернизма). М., 1995. Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. СПб., 1999; Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000.
- [9] Менде Г. Мировая литература и философия. М., 1969.
- [10] Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М. 1972; Адмони В.А. Поэтика и действительность. Л., 1975; Гулыга А.В. Искусство в век науки. М., 1978.
- [11] См.: Великовский С. Грани несчастного сознания. М., 1973; Давыдов Ю.Н. Эстетика нигилизма. М., 1975.
- [12] Постмодернисты о культуре. Интервью с современными писателями и критиками. М., 1996.
- [13] The Collected Stories of Bertrand Russell. Compiled and Edited by Barry Feinberg. London, 1972.
- [14] Рассел Б. Искусство мыслить. М., 1999. С. 13.
- [15] См. анализ термина Гулыга А.В. Искусство в век науки. М., 1978. С. 34 — 49.
- [16] Брехт Б. Рабочий дневник (1936-1955) // Новый мир. 1976. №5. С. 216, 219.
- [17] Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 116, 118.
- [18] Мерло-Понти М. О феноменологии языка. Гуссерль и проблемы языка // Мерло-Понти М. В защиту философии. М., 1996.
- [19] Долгов К.М. Кант и кризис буржуазного флософско-эстетического сознания // Вопросы философии. 1976. № 7. С. 119-120.
- [20] См.: Цыркун Н.А. Эстетические аспекты философии Л. Витгенштейна // Вопросы флософии. 1981. № 10.
- [21] Моруа А. Литературные портреты. М., 1970. С. 203, 441.
- [22] Бибихин В.В. Язык философии. М., 1993. С. 383.
- [23] Унамуно Мигель де. Назидательные новеллы. М.—Л., 1962. С. 112-113.
- [24] Вейцман Е. Очерки философии кино. М., 1978. С. 91.
- [25] См. особенности его в театре: Пави П. Словарь театра. М., 1991. С. 80-83.
- [26] Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 25.
- [27] См. Язык и наука конца 20 века. М., 1995.
- [28] Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. М., 1977. Т. 3. С. 351.
- [29] Мамардашвили М.К. Литературная критика как акт чтения // Вопросы философии. 1984..№ 2. С. 99.
- [30] Петровская Е. Глазные забавы. М., 1997.
- [31] Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С.135; см.: Текст как явление культуры / Антипов Г.А., Донских О.А., Марковина И.Ю., Сорокин Ю.А. / Новосибирск, 1989.
- [32] См., например, Сартр Жан-Поль. Ситуации. Антология литературно-эстетической мысли. М., 1997; Бланшо Морис. Последний человек. СПб., 1997.
- [33] Кант И. Критика способности суждения // Соч.: В 6 Т. М., 1969.Т. 5.С. 330.
- [34] См.: Великовский С. Грани «несчастного сознания». М., 1973. С.5.
- [35] Rorty R. The historiography of philosophy: four genres // Philosophy in history. Essays on the historiography of philosophy. N.Y.-L.. 1993.
- [36] Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984-1985. М., 1986. С. 124.
- [37] См. подробнее: Губман Б.Л. Западная философия культуры XX века. Тверь, 1997.
- [38] См. подр.: Дианова В.М. Философское искуство в постмодернистской ситуации // Грани культуры. СПб., 1997. С. 63-65; Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. СПб., 1999.
- [39] Искусство и художник в зарубежной новелле ХХ века. СПб., 1992. С. 7; См.: Банфи А. Философия искусства. М., 1989.
- [40] Сравни: Сартр Ж.-П. Фрейд. М.,1992 и Делёз Ж. Фуко. М., 1998; Делёз Ж. Ницше. СПб., 1997.
- [41] Культура в свете философии. Тбилиси, 1979. С. 270-271.
- [42] Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987. С. 25.
- [43] Кормин Н. Онтология эстетического. М., 1992. С. 5, 7.
- [44] Эстетика природы. М., 1994. С. 198.
- [45] Мигунов В. Vulgar. Эстетика и искусство во второй половине ХХ века. М., 1991.
- [46] Kobry Yves. Le Biedermier ou la nostalgie // L`oevre et le Concept. Paris, 1992. P. 149-152.
- [47] См.: Бодрийяр Ж. Система вещей. М.,1995; Лелеко В. Эстетика повседневности. СПб., 1993.
- [48] Бодрийяр Ж.: 1) Система вещей. М. 1995. С.154; 2) О совращении // Ad Marginem’93. Ежегодник. М., 1994. С. 324-353.
- [49] Бодрийяр Ж. Транспаранс зла // Горизонты культуры. СПб., 1992. С. 235.
- [50] Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность. М., 1994. С. 43.
- [51] Danto A. Philosophy as (and) of Literature // Post-Analytic Philosophy. Ed. by J. Rajchman and C. West. N. Y., 1985, Р. 64.
- [52] Ibid. P. 68.
- [53] Серль Дж. Рациональности и реализм: что поставлено на карту // Путь. М., 1994, № 6, с. 213
- [54] Левинас Э. Служанка и ее господин // Морис Бланшо. Ожидание забвение. СПБ. 2000. С.141
- [55] Деги М. Морис Бланшо: «Ожидание забвение» // там же С.149
anthropology.ru
6. Место философии в системе культуры. Взаимоотношение философии, искусства, литературы. Философия и нравственность. Гуманизм философии.
Литература и философия
Философия выступает как часть литературы в своем реальном существовании. Наряду с чисто устными формами ее передачи и преподавания она доступна в виде совокупности письменных источников, которые подразделяются на признанные и устоявшиеся жанры: поэмы, максимы, диалоги, проповеди, эссе, афоризмы и т.д. С этой точки зрения философия связана с историей литературы и литературоведением, которые стремятся установить время и условия появления различных жанров философских произведений и определить их характерные черты и правила. Впрочем, философия связана с литературой не только формальными признаками, но также и в своей основе, так как философское произведение является выражением индивидуальности, распознаваемой по своему стилю. Поскольку данная индивидуальность использует для самовыражения определенные правила жанра, философское произведение предстает как произведение искусства.
Развитие философии
А) Философская литература до Сократа
В досократовские времена для выражения философской абстракции использовали прозу, а не поэзию, в отличие от гомеровских времен, в которых использовали поэзию. Афоризм (проза) восходит к жанру, представленному во всех народных культурах, а именно к пословицам и поговоркам. Пословица уходит своими корнями в опыт: поэтому она, как и опыт, ограниченна и фрагментарна. Но философская мысль претендует на то, чтобы выйти за пределы опыта. Поэтому греческая досократовская мысль, заимствовавшая форму поэмы и стиль пословицы, не нашла адекватной формы для философского содержания.
Первым, кто сделал возможным дальнейшее развитие философской мысли, был Сократ
В) Сократовская критика искусства и литературы
Сократ и его последователи создали философию, открыто выступив против слишком поэтического стиля досократовской мысли и против поэзии и искусства вообще.
Сократовским идеалом языка является простота, которая не отступает перед обыденностью и находит самое естественное её выражение в разговорном стиле. Сократ считает, что философия начинается в диалоге. Диалог – это не столько подрыв авторитетов, сколько метод исследования и обучения. Он критикует письменные источники, считая, что истина не в книгах. А в нас, во внутреннем движении поиска и рефлексии.
С) Платоновский диалог
Платон не хотел доверить письменному тексту ту часть своей философской мысли, которую он считал наиболее важной, и ,что относясь с серьезностью к своим устным наставлениям, он сам принижал свои написанные произведения, представляя их лишь развлечениями и «забавами». Находясь на полпути между прозой и поэзией, платоновский диалог примыкает к трагедии поэтической красотой своего ямбического ритма – этот ритм наиболее близок к прозе разговорной речи, он в наибольшей степени способен выразить поэзию прозаической мысли. Таким образом, платоновский диалог является в некотором смысле разрешением конфликта между философией и литературой. Но цель платоновского диалога не в том, чтобы дать письменное изложение некоей философии, он дает некоторые подсказки, необходимые для того, чтобы направить читателя на путь решения, которое сам автор отказывается сформулировать. Таким образом, платоновский диалог, будучи прежде всего художественным произведением, представляет философию как движение и жизнь, избегая показывать её застывшей в своих результатах.
Итак, изменение философской жизни – переход от сократовской импровизации к платоновской институции – привело к преобразованию платоновского диалога, постепенно приближавшегося по форме к связному изложению. Продолженная после Платона, эта эволюция диалога вызвала окостенение его форм. Опровергающий диалог, так же как и майевтический (майевтика - метод Сократа извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов) диалог, просуществовал не дольше, чем сократовские диалоги Платона. Эристические (эристика— искусство спора, диспута и полемики, разрабатывавшееся софистами. Аристотель эристикой называл искусство спора нечестными средствами. Эристическая аргументация направлена на то, чтобы доказать правоту спорящего вне зависимости от его истинной правоты. Эристику следует отличать от софистики — в отличие от последней она строится не на ошибках и подменах, а на убеждении других в своей правоте) диалоги сменились академическими, гибкость диалектической дискуссии сменил жесткий механизм схоластического. Но становление философской школы не только до неузнаваемости изменило жанр, созданный Платоном, оно также вызвало появление новых жанров, в соответствии с отдельными философскими функциями, ранее смешанными в платоновском диалоге. Это приумножение жанров выглядит как своего рода взрыв диалога вследствие глубоких перемен, которые введение школьных дисциплин произвело в самой природе философского рассуждения.
Философия между поэзией и наукой
Историческое развитие философии породило столько жанров, сколько имеется различных форм и отдельных разновидностей философской деятельности. Но все эти жанры сходны в том, что изложение философии уже не относится к литературе. Оно является или научным, если принимает форму индивидуального исследования, или школьным, если принимает вид школьных построений, необходимых для коллективной передачи философского знания. При такой трансформации философия настолько удаляется от своих сократовских начал, что можно поставить вопрос, насколько законно она продолжает ссылаться на своего первооснователя.
А) против школьной формулировки философии
В школе мысль живет не проблемами, порождаемыми действительностью, а только проблемами, возникающими из-за неясностей в формулировках, унаследованных школой. Если ясность и естественность – философские качества, то образцом философского стиля надо, конечно, признать не стиль, несущий на себе отпечаток сгорбившегося за своим столом кабинетного мыслителя, а стиль гораздо живой и свободный, рожденный прогулками по садам и улицам Афин - стиль диалогов Платона.
В) возврат философии к литературным началам
В противовес слишком научной и слишком школьной форме философских текстов появились попытки снова выразить философскую мысль в литературном виде. Такие попытки обосновываются их авторами желанием вернуть философию к её истокам, вернуть ей близость к обыденной жизни и конкретной реальности, возвратить уже давно созданную философию к способу выражения, от которого она сознательно отказалась (к афоризму и философской поэме).
С) искусство – лишь начало философии
Именно с изумления люди начали философствовать. Изумление – действительно первое свидетельство сознания, первый признак свободы, когда человек принимает вещи такими, какие они есть, и удивляется тому, что они таковы. Сказки, басни, мифы, все наивные чудеса, которые удивляют человека в детстве – это первое воспитание философского инстинкта. Удивление – лишь начало философии, которая должна выйти за его пределы и завершиться в рациональном знании, где удивлению уже нет места. В связи с этим и в самом своем стиле философия отходит от поэтических формулировок, свойственных ей вначале. Но философия отмежевается от искусства не только своей формой: она дистанцируется от него в самом своем содержании.
Произведение искусства интересует философа постольку, поскольку оно содержит элементы мысли.
Вывод: философия неразрывно связана с литературой.
studfiles.net
Реферат - Философия литературного творчества
Юрий Минералов
Заговорив об Алексее Федоровиче Лосеве как литературоведе, вряд ли верно было бы умолчать о том, что «литературоведом» он себя скорее всего не признавал. Последнее вполне естественно для человека, который сформировался как исследователь в серебряный век русской культуры — то есть в эпоху, когда еще сохранялось единство филологического знания и от ученого требовалось быть профессионалом сразу и в отношении литературы, и в отношении языка (одновременно обладая в необходимой мере также культурно-исторической и философской эрудицией). Помимо этого именно серебряный век очень увлекался идеей органического слияния воедино важнейших направлений духовной жизни и деятельности человека (религии, науки, искусства и т. д.), и вряд ли случайно молодой ученый начал с размышлений о «высшем синтезе», говоря: «Современность возжаждала синтеза более, чем всякая другая эпоха. Философская мысль расплачивается теперь своей беспомощностью и тоской по высшему синтезу за слепое самоотдание технике и «открытиям» XIX века, за долгое блуждание в лабиринте гносеологической схоластики, за безрелигиозность, под знаком которой протекла вся новая культура» (13, 32).
В этих словах уловимы отголоски излюбленных суждений мыслителей того времени, подобных В. Иванову (с которым много общался Лосев в предреволюционные годы). Но в них присутствует косвенная самохарактеристика, несомненную точность которой подтверждает последующая творческая деятельность А.Ф. Лосева — филолога, философа, историка античной культуры, музыковеда.
Природный диалектик, мышление которого без усилия «схватывало» все, связанное с идеей «текучести» явлений сущего, их качественных трансформаций и метаморфоз, все, относящееся к антиномии макрокосмоса и микрокосмоса, ее конкретным воплощениям в сфере художественного творчества, и т. д., и т. п., — А.Ф. Лосев безошибочно опознал мнимую схоластическую «ученость» не только в позитивизме XIX века. Тяготение к специфически понимаемой «точности» (к формальным схемам, рубрикам и классификациям) оказывается чертой едва ли не панхронической, всевременной. Воссоединять искусственно расчлененное, разобщенное позитивистским сознанием — это очень в духе серебряного века, и это великолепно удавалось А.Ф. Лосеву.
В 20-е годы филологическая молодежь его поколения в общем нередко увлекалась, противоположным образом, как раз «классификацией и детализацией». Исходя из различных принципов, ими в равной мере были заняты и формалисты, и вульгарные социологисты в литературоведении и языкознании. Современник писал: «Возникнув в атмосфере футуризма… лингвистическая поэтика опоязовцев… гордо отвергла свою предшественницу, — лингвистическую поэтику Потебни. Последний… полагал, что в художественном произведении… внешняя форма, внутренняя форма и содержание или идея. Проблема образа (внутренняя форма) кладется им в основу всей поэтики. Наши формалисты, по крайней мере, наиболее радикальные из них, хотят оставаться лишь при одной внешней форме…» (18, 39). Но и во внешней форме «выпячивался» количественный момент. Абсолютизация количественных отношений применительно к «организму» литературного произведения (а количественные подсчеты требуют именно расчленения объекта на дискретные «единицы») означала, что «гордо отвергается» не только подводная часть айсберга («внутренняя форма», которой будто бы и нет), но и вообще идеей диалектической «текучести» литературных явлений — отвергается во имя искусственного умозрения, схемы, сконструированной в отрыве от реальности.
Менталитет «революционеров от науки» с неизменным для него чувством пренебрежения к «проклятому прошлому» (то есть к политической и культурной истории Отечества и, как итог, к истории отечественной науки) был широко распространен в кругах литературоведческой молодежи 20-х гг. (см. подр.: 15). А.Ф. Лосев оказался в своем поколении стоящим особняком, и если «связь времен» не оборвалась в нашей науке, то этим она обязана деятельности именно таких ученых, как он.
В одной из своих книг, вышедших «изданием автора» в 1927 году, он пишет: «Наша «диалектика человеческого слова» ближе всего подходит к тому конгломерату феноменологических, психологических, логических и лингвистических идей и методов, который характерен для прекрасного исследования А. Потебни (Мысль и язык. Харьк., 1913), внося в него, однако, диалектический смысл и систему» (6, 253). Так молодой автор прославленной позже в науке «Философии имени» отзывается о соотношении собственной концепции и юношеской концепции А.А. Потебни, тоже прославившегося с трагическим запозданием (посмертно) и именно в серебряный век русской культуры, сформировавший Лосева.
Чтобы представить себе, чт? о имел противопоставить «классификации и детализации», внешне-формальным штудиям этот диалектик, можно привести его четкое указание, что даже аристотелевские несколько тропов по сути сводимы в одну категорию метафоры: «…Метафора, в самом широком значении этого слова, есть основная художественная форма, служащая выражением словесного смысла… Метафора, в широчайшем понимании, есть, таким образом, универсальная категория поэтического. Это та модификация символа, которая специфична именно для поэзии. Метафора и есть наша словесная художественная форма, но данная в своей фактически-поэтической законченности» (7, 125).
Возразить против этих слов в концептуальном плане невозможно. Даже простое сопоставление легко покажет, что разные авторы нередко помещают однотипные примеры кто в раздел метафор, кто синекдох, кто в эпитеты. Границы между основными «аристотелевскими» тропами настолько условны, что их выделение скорее инструментальный прием, чем теоретически неоспоримая реальность. Недаром в обиходных ситуациях слова «метафора», «метафорически» и т. п. нередко употребляются для обозначения тропов вообще. Это возможно в силу функциональной однородности тропов и в силу того, что для поэзии, действительно, специфична модификация символа типа метафоры.
Однако тот же А.Ф. Лосев умеет провести четкую границу там, где действительно имеет место качественное различие.
Вот как он истолковывает разницу между поэтикой и литературоведческой стилистикой (в разграничении которых авторы-недиалектики как раз не сильны): «Учение о метафоре вообще есть — поэтика (или эстетика поэзии). Но учение о том, как употребляет метафору Пушкин или Тютчев есть уже часть стилистики. Тут уже приходится обсуждать метафору не в ее общих структурно-конструктивных моментах, но изучать те особые точки зрения, которые характерны для… самого автора и которые по существу своему никакого отношения ни к какой структуре никакой метафоры не имеют, но которые тем не менее в этих метафорах, как и во всем прочем могут воплощаться и выражаться» (6, 226).
Понятно, что в данном случае метафора упоминается лишь в качестве примера. Метафора, рифма, стихотворный метр и т. д. и т. п., взятые «изнутри», с точки зрения их структуры вообще суть объекты поэтики, стилистика же изучает способы использования, употребления художником всего того, что описано в поэтике; а такие способы у каждого автора различны. Структура, «механизм действия» метафоры и пр. стилистику не интересует — она рассматривает употребляемое художником феноменологически. Лосевское разграничение безупречно.
Теория художественного стиля интересовала А.Ф. Лосева на протяжении всей его творческой деятельности. Углубляясь в музыку, возвращаясь к литературе, изучая античные риторики, размышляя над русской литературой, над трудами философов античности, средневековья и ренессанса, русского серебряного века, он неизбежно сталкивался с соответствующей проблематикой: «Стиль — необходимая диалектическая категория, следующая за категорией символа» (7, 122).
Уже у молодого Лосева в самом подходе к осмыслению феномена «стиль» проявляется уровень мышления исключительно крупного исследователя: «Для определения стиля необходима точка зрения инобытийная к самой художественной форме», — говорит он в «Диалектике художественной формы» (1927), сразу же находя, таким образом, тот ракурс, который необходим, чтобы не произошло незаметного смешения явлений стиля с нестилевыми категориями. Далее говорится: «Пусть мы говорим, например, о каком-нибудь историческом стиле. Это значит, что мы должны независимо от произведений искусства стиля Возрождения знать, что такое Возрождение. (…) Пусть я говорю о «стиле Чайковского» в музыке. Это возможно только тогда, когда я уже до этого анализа знаю в четком определении или описании, что такое Чайковский. А откуда я взял это определение, — для настоящего анализа совершенно не важно, и нет ничего странного в том, что я взял его из наблюдения, между прочим, и за теми же самыми музыкальными произведениями» (7, 123).
В 20-е годы, когда получили распространение в литературоведении штудии, нацеленные на внешнюю форму, А.Ф. Лосев своими работами продолжал ту едва ли не противоположную этому семасиологическую линию, которая ранее так ярко проявила себя в «замечательном учении» А.А. Потебни (7,157). Впрочем, он уже тогда не был настроен в отношении своего великого предшественника ученически. Потебня различает во всяком семантически целостном языковом образовании (иерархически — от слова до произведения) не два начала (форму и содержание), а три (внешнюю форму, внутреннюю форму и содержание). В этой триаде важнейший компонент — второй. То, что именуется «внутренней формой» — явление семантическое. В узком истолковании это этимологический образ в слове типа «окно — око», «город — огороженное место» и т. п., в широком же вообще «образ идей», «идея идеи» — ибо и разные языки в словах с одинаковым словарным значением таят различный образ (по-русски окно — то, через что смотрит око, по-английски же — то, через что дует ветер), и разные поэты дают одинаковым или сходным идеям свою собственную образную интерпретацию, обеспечивающую семантическую уникальность того, что претворено индивидуальным стилем. А.Ф. Лосев видоизменил потебнианскую триаду — сходным образом он, между прочим, поступил с философской триадой, заговорив уже о «тетрактиде» (7, 133).
Слово в художественном контексте проявляет дополнительно важные семантические свойства: «Так, смысл слова варьируется в зависимости от способа расположения их в предложении, от стихотворного размера (и его видов), рифмы и пр., внешних приемов, употребляемых с целями выразительности». Это есть… пойема слова, пойематический слой в семеме» (6, 36), «все эти типы семемы можно обобщить в один — символический — слой» (6, 36-37).
«Пойема» («поэма») — древнегреческое слово, обозначающее произведение искусства. Лосев в своей концепции объективно продолжает разработку темы слова как произведения искусства, темы подобия между словом языка и произведением, начатую в русской теории словесности А.А. Потебней. Впрочем, в своем отношении к слову он предстает, безусловно, как человек другого времени. Серебряный век с его неотступными размышлениями о «магии слов» вспоминается при встрече с таким характерным тезисом А.Ф. Лосева: «Слово есть… некоторый легкий и невидимый, воздушный организм, наделенный магической силой что-то особенное значить, в какие-то особые глубины проникать и невидимо творить великие события. Эти невесомые и невидимые для непосредственного ощущения организмы летают почти мгновенно; для них (с точки зрения непосредственного восприятия) как бы совсем не существует пространства. Они пробиваются в глубины нашего мозга, производят там небывалые реакции, и уже по одному этому есть что-то магическое в природе слова…» (13, 659).
Не пытаясь поднимать вопрос, «верны ли» подобные высказанные А.Ф. Лосевым в «Философии имени» представления о слове как смысловом явлении и о феноменах, с ним связанных, нельзя однако не указать, что он говорит здесь о проблемах, разрешать которые без явного успеха несколько ранее Лосева пробовали (в серебряный век) теоретики символизма. Философско-филологическая проработка Лосевым этого рода проблем, конечно, несравненно более глубока и академически основательна, чем у А. Белого или В. Иванова.
Круг идей, высказанных в «Философии имени» и других работах раннего Лосева, в силу своей синтетичности и универсальной многогранности существенен и для философской диалектики и для эстетики, и для философии языка, и для языкознания, и, наконец, для теории словесности — как это уже видно из вышеприведенного. Без «Философии имени» (как и без многих позднейших книг ученого — среди них, например, книг «Языковая структура» и «Знак. Символ. Миф.») вряд ли возможно обойтись при построении концепций, связанных со знаковыми системами. Если позже, в 70 — 80-е годы «Фигуры умолчания» вокруг имени А.Ф. Лосева и практиковались иногда теми или иными приверженцами семиотики, теми или иными структурно-семиотическими школами, то (хотя понять таких семиотиков нетрудно) это имело для их концепций с точки зрения точности, научности и пр., несомненно, отрицательные последствия, разъяснять характер которых подробно нет необходимости.
Лосев начал как православно-христианский философ, то есть диалектик-идеалист, крепкий в вере, отрицательно настроенный в отношении гностических, теософских и иных подобных веяний, имевших место в кругах интеллигенции серебряного века (последнее отчетливо выражено в написанной в 1919-1921 гг., но опубликованной только сегодня его работе «Мировоззрение Скрябина» — (см. 12), отрицательно настроенный и к материализму. Как следствие, в ранних работах достаточно открыто и свободно, а в поздних глухо, как бы «сквозь зубы» он говорит в связи с проблемой словесного смысла о магии слов и том, что с этой темой связано. Однако вряд ли в этом состоит слабая сторона его концепции. Скорее, напротив, последующее забвение исследователями знаковости и вопросов семантики тех аспектов, которые естественно и заведомо попадали в поле зрения идеалиста Лосева, внесло в семиотические штудии скованность, схематизм и однобокость.
«Бессмыслие — отсутствие смысла; оно — окружает смысл и тем оформляет его, дает ему очертание и образ» (13, 654), — пишет А.Ф. Лосев («Философия имени»). Такого рода суждения концептуально настолько фундаментальны, действенно конкретны и релевантны литературоведческой тематике (например, теория стиля), что историко-биографические привязки вроде указаний на увлечение Лосева и Флоренского в 20-е годы «имяславием» могут вместо прояснения даже невольным образом что-то затушевать в них для современного читателя. Семантические воззрения молодого А.Ф. Лосева заведомо шире контекста ушедших в прошлое религиозно-богословских дискуссий.
Когда много позже в «Истории античной эстетики» Лосев обратился к вопросу, чем была воспринимавшаяся долгое время как нечто безнадежно устарелое, забытое риторика, он многое нюансировал в проблеме словесного смысла и, прежде всего, в интересующем нас вопросе о смысле художественном. «Самое важное, — по мнению А.Ф. Лосева, — это понимать здесь то, чем не является риторика Аристотеля. Обычно думают, что это есть учение об ораторском искусстве. Это совершенно не так. Ораторское искусство входит в область риторики не больше, чем вообще всякое человеческое общение… Риторика Аристотеля есть попросту искусство убедительно говорить, почему больше всего она применима к художественным областям…» (9, 532).
Риторическая сфера — сфера эмоционального убеждения, а не логического доказательства. Риторика апеллирует к тому, природа чего известна лишь в самых общих чертах, и что именуется обычно (именуется в значительной мере чисто условно) «интуицией», «подсознанием» и т. п. Следовательно, словесное художественное творчество, действительно, «больше всего» интересовало риторику на протяжении всей многовековой истории существования этой особой комплексной (и философской, и филологической, и психологической, и, несомненно, «магической») дисциплины, сочетавшей в себе широкую теоретическую масштабность с четкой нацеленностью практических рекомендаций. Заслуга А.Ф. Лосева уже в том, что в эпоху господства позитивистско-материалистических воззрений он не просто декларировал, а на множестве конкретных фактов античной словесной культуры продемонстрировал необходимость возрождения так огульно отринутой в XIX веке риторики.
Античность, придававшая риторике такое великое значение, понимала ее задачи весьма четко. Современная теория художественного стиля не совпадает с ней, хотя внешняя близость налицо (как со стилистикой отнюдь не совпадает поэтика). Аристотель писал, что в риторике следует говорить «о том, что касается мысли, …так как это принадлежность ее учения», а к области мысли по Аристотелю «относится все, что должно быть достигнуто словом» (1, 666). Смысловая сторона художественного произведения, ее оптимизация (так чтобы в идеале замысел и воплощение были взаимоадекватны, стрелы художника, образно говоря, точно поражали бы цель) — вот объект риторики. Все это представляет ныне отнюдь не исторический, а самый живой интерес, в силу чего в последние годы в филологической среде наблюдается инстинктивная «ностальгия по риторике». Иррациональная «интуитивистская» основа ее воззрений, не отвечавшая когда-то пафосу набиравшего силу материалистического в своей основе «позитивного» знания, уже не раздражает.
Риторика создавала своеобразную типологию ассоциативного развертывания семантики. Приоритет семантики, а не формы поступает в риторике всюду. Слово — не «словоформа», а «простая идея», фраза, период — «сложенная идея», произведение — определенное «соединение и расположение идей». Данный подход позволял риторике осуществлять тонкое и глубокое проникновение в художественную семантику в ее конкретных нюансах — чего в наше время, кстати, оказалось невозможно достичь, оперируя понятиями «уровней», «оппозиций», «семантических полей» и прочими «пустыми абстракциями» в гегелевском смысле этого термина (3, 87, 90). Дееспособной альтернативы риторике как практически ориентированной теории семантики создать так и не удалось. И к лосевским наблюдениям над риторикой явно придется возвращаться все чаще. Ведь сегодняшние опыты по созданию так называемой «неориторики» парадоксальным образом апеллируют не к семантике, а к внешней форме, включая вместо живых и конкретных функционально действенных правил условно-абстрактные искусственные схемы. Аппарат «неориторики» расходится со спецификой реально исторически существовавшей риторики настолько, что перед нами, по сути, не «неориторика», а антириторика.
Чтобы полнее ощутить внутренний «контакт» А.Ф. Лосева с исследуемыми им античными риториками, глубину его проникновения в эту психологически так далекую от людей XX века стихию, можно сравнить приводившиеся его суждения о риторике с тем, что пишет сегодня о ней один отечественный автор, который характеризует риторику как «сложный конгломерат понятий, конституций, методов и результатов, с трудом соотносимый с нашими сегодняшними представлениями о единой научной дисциплине», и даже упоминает о ее «донаучности» (16, 355, 363). Собственная его концепция, естественно, подается на этом удручающем фоне как образцово современная теория, причем проводится параллель между ней и риторикой Аристотеля, обоснованность которой проблематична: вряд ли корректно соотносить формально-структурные понятия вроде «сверхфразовых уровней», «межфразовой связи» и т. п. с семасиологическими тезисами Аристотеля, «наука же, — говоря словами А.А. Потебни, — началась там, где начался анализ явлений», а не «с последней прочитанной книжки» (18, 68).
Этого рода современные концепции А.Ф. Лосев остроумно назвал однажды «стенографической лингвистикой». Лосев сумел рассмотреть в риторике Аристотеля то главное и стержневое, что опровергает ее характеристику как «конгломерата» и пр. Диалектика читает диалектик, могучего мыслителя прошлого читает ученый XX века, ему конгениальный.
В сфере художественной словесности особый интерес с риторической стороны представляет лирика.
А.Ф. Лосев точно указывает на ритм, как на тот объективный риторический движитель, который производит «художественные» метаморфозы с эмоциями, превращая их в лирику. Представителем «позитивного» знания вряд ли могли приниматься всерьез, например, популярные в современных ему литературно-художественных кругах мнения о «магической» роли ритма — ср. слова В. Иванова, что в старину «ритмами излечивались болезни души и тела, одерживались победы, усмирялись междоусобия» (4, 131). Отношение к проблеме А.Ф. Лосева лишено прямолинейности. В цитируемой книге «Знак. Символ. Миф» (1982) он не обсуждает проблему магичности слова, интересовавшую его в «Философии имени». Разговор из плана «магического» переведен в план «мифологического» (что могло быть связано и с цензурными условиями). Лосевские наблюдения над «мифологией» слова и языка литературоведчески исключительно интересны:
«Когда мы говорим дождит, то нам на первых порах еще не известно, кто дождит или что дождит, но уже немецкий язык говорит, т.е. какое-то оно дождит. Французы пошли еще дальше, и это оно они превращают прямо в он. Но откровеннее всех и со своей точки зрения гораздо более честно рассуждали древние греки, которые прямо говорили Зевс дождит. (11,105).
Тонкость аналитических операций А.Ф. Лосева над словесно-речевой образностью, глубина его проникновения в эту образность сравнимы разве лишь с проницательнейшими наблюдениями А.А. Потебни. Видимо, это прежде всего философия языка, но это несомненно важно и для литературоведческой стилистики, когда читаешь у Лосева: «Мышление… состоит из того, что мы что-нибудь предицируем с чем-нибудь. Казалось бы, здесь мы имеем дело с таким простейшим предметом, о котором и говорить нечего. На самом же деле… чисто логическая предикация неузнаваемым образом интерпретируется в языке. Безличные предложения вроде: Светает, Вечереет, Холодает, Потеплело, Думается, Кажется, Знобит не имеют выраженного предмета для предицирования, а лишь выражают само предицирование. Но, конечно, предмет это есть, только проанализировать его трудно» (11, 104-105).
Сходным образом чисто феноменологически, как привычный факт, воспринимают люди то, что в некоторых языках (например, таком широко распространенном, как английский) многие слова, не используя различных аффиксов, могут быть и глаголом, и существительным (а порой и другими частями речи — прилагательным, наречием). В русском языке такое немыслимо, казалось бы. Но уловимый отголосок этого феномена усматривается в свойственном поэтическому языку явлении «корневого повтора», «художественной этимологии» (ср. у Г. Державина «Бурно бурей буреванье и борев в сем бору», у В. Хлебникова «В высь весь вас звала И милый мигов миру ил» и пр.). В историческом плане подобные факты выглядят как атавистические элементы так называемого «инкорпорированного синтаксиса», который полноценно развит сегодня, как показывает А.Ф. Лосев в языках малых народов Севера (11, 250-251): «Предложение строится здесь путем простого комбинирования разных основ или корней без всякого их морфологического оформления простого нанизывания, в результате чего и образующиеся из них предложения являются в то же самое время не чем иным, как одним словом (…) (11, 251). Все элементы инкорпоративного предложения в этом смысле совершенно аморфны, так что один и тот же звуковой комплекс может обозначать здесь и «убийство» и «убивать», и «убийственный», и т. д.» (11, 251-252).
Инкорпоративное мышление оперирует исключительно только с бесформенными расплывчатыми, неанализируемыми чувственными пятнами» (11, 254). Но, между прочим, «корневой автор» в поэтическом языке (он здесь — одна из базовых составляющих этой особой, переоформляющей обычный язык по-своему, в соответствии с художественными задачами, системы) тоже создает подобное чувственно-смысловое пятно. Разумеется, язык поэзии оперирует не «исключительно только» с такими пятнами, но то, что они играют в индивидуальном слоге некоторых поэтов, вроде вышеназванных, свою существенную роль, доказывать не приходится. Из сфер мифологического и магического «запредельного» мысль великого диалектика по-новому возвращается к конкретике языка, к речевой плоти — « и мифология есть мышление и синтаксическое связывание есть также мышление» (11, 405).
Здесь Лосев далеко уходит вперед по той малоизвестной тропе, которой продвигался когда-то Потебня с его семасиологией, связавшей теорию языка и теорию словесности. Мысль Лосева энергична и почти зримо «опредмечена»: «В связной речи… всякое предложение проскакивает у нас, так сказать, единым духом, одним махом, в виде одной нераздельной линии» (11, 110). «То, что междометия являются целыми свернутыми предложениями, это понятно само собой» (11, 465). «Было бы колоссальным достижением науки, если бы каждое отдельное слово нужно было бы считать конденсированным предложением. Теоретически это только и может быть так, но практически и языковедчески это требует обследования весьма больших грамматических материалов» (11, 109).
Так, окказиональные поэтические неологизмы представляют собой свернутые тропы (если приложить лосевскую терминологию — метафоры) и в порядке рабочего приема легко развертываются в конструкции из нескольких слов, выражающих синтаксически относительно законченную мысль (ср. северянинское «разлепесточил апельсин» — то есть «разделил на дольки, напоминающие собой лепестки цветка» апельсин).
Легко понять, сколь значимы обсуждаемые феномены, например, для теории стиля. То, что слово может быть функционально эквивалентно предложению (существуют, понятным образом, и иерархически более высокие эквивалентные пары), многое объясняет во взаимных отличиях индивидуальных стилей. Незримое смысловое движение, процесс (свертывание — развертывание, конденсация — смысловое «разрежение» и иные проявления «взаимоперетекания») в самой природе словесного искусства — уже потому, что, как и показал когда-то В. Гумбольдт (3), сам язык — это движение, непрерывная деятельность, а не только ее продукт.
«В итоге необходимо сказать, — пишет Лосев, — что если мы пришли к выводу о языке как всеобщем предицировании, то это значит, что и каждый минимальный элемент языка тоже есть смысловой сдвиг, тоже взывает о том или ином предицировании, т. е. тоже является минимальным предложением. Это и значит, что общежизненный, а иной раз даже и философский термин «поток» мы перевели на грамматический язык. Язык как поток сознания означает только то, что язык есть всеобщее предицирование, т. е. всеобщее предложение или система предложений, а это касается любого и даже самого малого элемента языка. Если язык есть поток сознания, то это значит, что… основа языка — предложенческая» (11, 475-476).
Все это достаточно прямо относится к литературному стилю в узком смысле (слогу). Само собой разумеется, что представление о «потоке сознания», отраженном в языке, великолепным образом проецируется и на ряд конкретных произведений в литературе XX века, и отечественной и зарубежной, на ряд конкретных стилистов. Так А.Ф. Лосев постоянно проявляет свое уникальное умение в малом видеть великое и проникать во всякое смысловое явление до самых удаленных его корней.
Сегодня люди лишь приступают к постижению научного наследия А.Ф. Лосева. С уверенностью можно сказать, что это был гениальный ученый современности, гордость русской культуры, один из крупнейших мыслителей XX века. Сейчас ситуация для органического усвоения нашими современниками культурного наследия в силу понятных обстоятельств явно не самая благоприятная. Но тем важнее работа по сбережению этого наследия и внедрению его в «актив» современной науки и современной культуры. Еще недавно А.Ф. Лосев жил среди нас. Теперь он — в одном ряду с Платоном и Аристотелем, Кантом и Гегелем, В. Гумбольдтом и Потебней, Достоевским и Толстым, Бахтиным и Хайдеггером — в ряду ярчайших умов человечества.
Список литературы
1. Аристотель. Сочинения в 4 т. Т. 4. М., 1984.
2. Белинский В.Г. Сочинения в 9 т., М., 1970.
3. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
4. Иванов В. Борозды и межи. М., 1916.
5. Лосев А.Ф. Философия имени. М., 1927.
6. Лосев А.Ф. Диалектика художественного творчества. М., 1927.
7. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.
8. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975.
9. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. М., 1979.
10. Лосев А.Ф. Языковая структура. М., 1983.
11. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. М., 1982.
12. Лосев А.Ф. Страсть к диалектике. М., 1990.
13. Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993.
14. Минералов Ю.И. Практическая семасиология. // О.О. Потебня i проблеми сучасноi фiлологiи. Киев, 1992.
15. Минералов Ю.И. Суета и культура//Московский вестник. 1992. №4.
16. Общая риторика. М., 1986.
17. Потебня А.А. Теоретическая поэтика, М., 1990.
18. Сакулин П.Н. Филология и культурология. М., 1990.
19. Чичерин А.В. Сила поэтического слова. М., 1985.
20. Ярхо Б.И. Простейшие основания формального метода //Ars poetica. Вып. I. М., 1927.
www.ronl.ru
Реферат по философии
студента группы МПиТК-25
Московского Государственного Инсититута
Электронной Техники
(Технического Университета)
Кириленко Бориса
на тему:
“Где искать “Абсолютную Истину“ ?”
1995 год
Оглавление:
Введение. 3
Понятие истины в нашей жизни. 3
Наука и истина. 5
Свет Истины. 7
Заключение. 13
13
14
Список используемой литературы: 14
Введение.
Ведь истина и знанье лишь отблеск пустой,
Когда Знанье бессильно мир изменить.
(Шри Ауробиндо)
Поисками истины человечество занималось со времен своего возникновения. Однако до сих пор вопрос, в чем же состоит “Абсолютная Истина” остается открытым. В рассмотрении этого вопроса большую роль играет точка зрения которой мы хотим придерживаться. Дело в том, что на воззрение человека на сущность вопроса об Абсолютной Истине большой отпечаток накладывают его сознание, культурная среда в которой он вырос и даже его место жительства.
В этой работе я попытаюсь рассмотреть значение словосочетания “Абсолютная Истина”. По ходу изложения эти слова будут писаться и с большой и с маленькой буквы. Это не ошибка и не опечатка. Почему сделано такое различие будет объяснено позднее.
Понятие истины в нашей жизни.
Да, Истина быть может Здесь, но ее нет ;
люди должны
искать и находть ее Там,
Но где это “там”, ни ты не знаешь, ни я;
об этом, наверное,
и сама земля ничего не знает.
(Из книги суфиев.)
Сначала убедимся в том, что то, что большинство людей понимает под термином Абсолютная Истина на самом деле не является таковой. Подразумевается, в таком случае, лишь “относительная абсолютность” касается ли это бытовых проблем или вопросов ядерной физики. Все во что человек верит глубоко и в чем, казалось-бы, не может усомниться он именует абсолютной истиной. Но очень часто, и тому имеется десятки тысяч примеров, эта “истина” изменяется порой на прямо противоположное утверждение. Бывает, что за время своей жизни человек сменит не одну такую истину, и его нельзя в этом винить, поскольку на протяжении длительного времени трансформировались его сознание, наука, представления об окружающем мире и т.д. За примерами далеко ходить не следует, тут и “неделимость” атома, и Солнце, вращающееся вокруг Земли. А в свое время эти, кажущиеся сейчас абсурдными гипотезы, побывали в роли абсолютной истины. Да что солнце. Известен такой курьезный факт: на протяжении нескольких веков считалось, что у мухи восемь ног, все потому, что так сказал Аристотель. Авторитет этого ученого был так велик, что никто даже не думал проверить это утверждение. Так как же быть с абсолютной истиной? Где теперь ее абсолютность? Если мы обратимся к словарю, то увидим, что критерием абсолютности1 является прежде всего независимость от любых внешних факторов. А здесь, как мы видим, проявляется весьма существенная зависимость от времени.
Но и во многих других случаях наше бытовое понимание абсолютной истины является неверным. Любое утверждение верное в какой-то отдельной области Земного шара вовсе не обязано быть верным в другой. Например, утверждения “Зимой холодно и идет снег” и “Зимой жарко и пора собирать бананы” не являются противоречивыми, все зависит от того где находится автор такого утверждения. В обыденной жизни мы не придаем значения такой тонкости и смело именуем одно из них абсолютной истиной. Хотя они таковыми не являются.
Таким образом, на простых примерах мы убедились, что в нашей обыденной жизни абсолютной истины не найти. Попробуем отыскать ее в науке, где ей казалось-бы самое место.
studfiles.net
Список литературы по философии. Оформление по ГОСТ.
Новые рефераты:
- Многообразие систем международного частного права. Иммунитет государства.
- Россия в 1917 г.: проблема цивилизационного выбора.
- Российская модель экономики.
- Российская модель экономики.
- Дидактическая характеристика системы Л.В. Занкова.
- Значение игры в психическом развитии дошкольников.
- Проблемы внедрения электронных систем документооборота.
- Рынк ценных бумаг США.
- Экономика третьего Рейха.
- Российско-американские отношения в период правления Б. Обамы 2012-2016г.г.
- Особенности уголовно-правового института освобождения от ответственности. .
Главная » Списки литературы. Библиографические списки по всем предметам. Список литературы по ГОСТ. » Список литературы по философии. Оформление по ГОСТ.
Список литературы по философии
Список литературы по философии. Оформление по ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание".
- Апрышко, П.П. Введение в философию / П.П. Апрышко, А.П. Поялков. - М.: Республика, 2012. - 656 с.
- Бучило, Н.Ф. Философия: учебное пособие / Н.Ф. Бучило. – М.: Проспект, 2013. – 325 с.
- Бучило, Н.Ф.Философия: учебное пособие / Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков. – М.: Знание, 2008. - 314 с.
- Грядовой, Д.И. Философия. Структурный курс основ философии: Учебное пособие / Д.И. Грядовой – М.: Щит-М, 2009 – 356 с.
- Канке, В.А. Основы философии. / В.А. Канке. – М.: Логос, 2013.- 288 с.
- Кохановский, В.П. Основы философии: учебник. / В.П Кохановский, Т.П. Матяш, В.П. Яковлев. – М.: Кнорус, 2013. – 232 с.
- Радугин, А.А. Хрестоматия по философии. / А.А. Радугин. – М.: Центр, 2006. - 317 с.
- Спиркин, А.Г. Философия / А.Г. Скрипкин. – М.: Юрайт, 2014.- 830 с.
- Философский словарь / под общ. ред. И.В. Фролова. - М.: Современник, 2009. - 848 с.
- Философский словарь / под общ. ред. С.Я. Пирогова, А.С. Подоприговой. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 576 с.
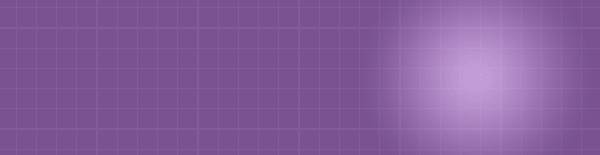 Лекция, реферат. Список литературы по философии - понятие и виды. Классификация, сущность и особенности.
Лекция, реферат. Список литературы по философии - понятие и виды. Классификация, сущность и особенности. Список литературы по философии для юристов
Список литературы по философии для юристов. Список литературы по философии права.Оформление по ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание".
- Данильян, О.Г. Философия права: учебник / О.Г. Данильян, Л.Д. Байрачная, А.П. Дзебань. – М.: Инфра-М, 2014. – 336 с.
- Захарцев, С.И. Некоторые проблемы теории и философии права: монография / С.И. Захарцев. – М.: Норма, 2014. – 208 с.
- Иконникова, Г.И., Философия права: учебник для магистров. / Г.И. Иконникова, В.П. Ляшенко. – М.: Юрайт, 2013. – 364 с.
- Иванов, Е.А. Социальная философия для юристов. Очерк истории: учебное пособие для студентов юридических ВУЗов / Е.А. Иванов. М.: Волтерс Клювер, 2007. – 286 с.
- Канке, В.А. Философия для юристов / В.А. Канке. – М.: Омега-Л, 2013. - 272 с.
- Лейст, О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права: учебное пособие / О.Э. Лейст. – М.: Зерцало, 2011. - 352 с.
- Мальков, Б.Н. Философия для юристов: учебное пособие для студентов вузов / Б.Н. Мальков, Г.А. Торгашев. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 448с.
- Малинова, И.П. Философия права и юридическая герменевтика: монография / И.П. Малинова. – М.: Норма, 2014. – 176 с.
- Марченко, М.Н. Философия права: курс лекций / М.Н.Марченко. – М.: Проспект, 2014. – 512 с.
- Нерсесянц, В.С. Философия права / В.С. Нерсесянц. – М.: Норма, 2014. – 256 с.
- Павловский, В.В. Введение в философию для юристов / В.В. Павловский. – М.: Либроком, 2012. – 208 с.
- Чичерин, Б.Н. Философия права / Б.Н.Чичерин. М.: Либроком, 2013. – 344 с.
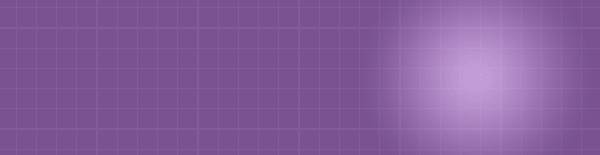 Лекция, реферат. Список литературы по философии для юристов - понятие и виды. Классификация, сущность и особенности.
Лекция, реферат. Список литературы по философии для юристов - понятие и виды. Классификация, сущность и особенности. Список литературы по философии для экономистов
Список литературы по философии для экономистов. Философия экономики.Оформление по ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание".
- Гуревич, П.С. Философия для экономистов / П.С.Гуревич. – М.: МПСУ, 2012. – 464 с.
- Канке, В.А. Философия для экономистов / В.А. Канке. – М.: Омега-Л, 2011. - 416 с.
- Самсин, А.И. Основы философии экономик: учебное пособие / А.И. Самсин. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 271 с.
- Скибицкий, М.М. Философия экономики: становление, структура и современные функции / М.М. Скибицкий // Гуманитарные науки 2012. - № 4. – С. 8-15.
- Философия экономики. Антология / Под ред. Д. Хаусмана. — М.: Институт Гайдара, 2012. — 520 с.
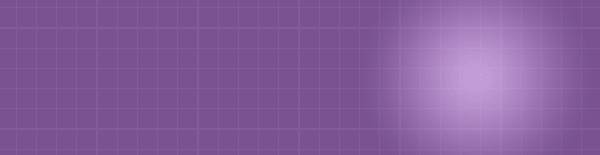 Лекция, реферат. Список литературы по философии для экономистов - понятие и виды. Классификация, сущность и особенности.
Лекция, реферат. Список литературы по философии для экономистов - понятие и виды. Классификация, сущность и особенности. Список литературы по философии смежных дисциплин
Философия науки | Социальная философия | История философииСписок литературы по истории и философии наукиОформление по ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание".
- Бельская, Е.Ю. История и философия науки: учебное пособие / Е.Ю. Бельская, Н.П. Волкова, М.А. Иванов. – М.: Альфа-М, 2014. – 416 с.
- Бучило, Н.Ф. История и философия науки: учебное пособие / Н.Ф. Бучило, И.А. Исаев. – М.: Проспект, 2014. – 432 с.
- Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки и техники: учебник для магистров / Н.Г. Багдасарьян, В.Г. Горохов. М.: - Юрайт, 2014. – 383 с.
- Вечканов, В.Э. История и философия науки / В.Э. Вечканов. –М.: Риор, 2013 – 256 с.
- Вальяно, М.В. История и философия науки: учебное пособие / М.В. Вальяно. – М.: Инфра-М, 2012. – 208 с.
- Гусева, Е.А. Философия и история науки: учебник / Е.А.Гусева, В.Е. Леонов. – М.: Инфра-М, 2014. – 128 с.
- Канке, В.А. История, философия и методология естественных наук. Учебник для магистров / В.А. Канке. – М.: Юрайт, 2014. – 505 с.
- Лебедев, С.А. Философия науки: учебное пособие для магистров / С.А. Лебедев. - М.: Юрайт, 2014. – 296 с.
- Мамзин, А.С. История и философия науки: учебник для магистров / А.С. Мамзин, Е.Ю. Сиверцев. – М.: Юрайт, 2014. – 360 с.
- Никифоров, А.Л. Философия и история науки: учебное пособие / А.Л. Никифоров. – М.: Инфра-М, 2014. – 176 с.
Список литературы по социальной философии
- Алексеев, П.В. Социальная философия: учебное пособие / П.В. Алексеев. – М.: Проспект, 2014. – 256 с.
- Ананьин, О.И., Философия социальных и гуманитарных наук / О.И. Ананьин, С.А. Лебедев, Ю.Д. Артамонова. – М.: Академический проект, 2008. – 733 с.
- Гаспарян, Д.Э. История социальной философии: курс лекций / Д.Э. Гаспарян. –М.: Вузовский учебник, 2014. – 166 с.
- Гобозов, И.А. Социальная философия: учебник для вузов / И.А. Гобозов. – М.: Академический проект, 2010. – 352 с.
- Ивин, А.А. Социальная философия: учебник для бакалавров / А.А. Ивин. –М.: Юрайт, 2013. – 510 с.
- Канке, В.А. История, философия и методология социальных наук: учебник для магистров / В.А. Канке. – М.: Юрайт, 2014. – 572 с.
- Кимелев, Ю.А. Философия социальных наук на рубеже XX-XXI веков / Ю.А. Кимелев. – М.: ИНИОН, 2013. – 84 с.
- Мамардашвили, М.К. Вильнюсские лекции по социальной философии / М.К. Мамардашвили. - М.: Академия, 2012. - 320 с.
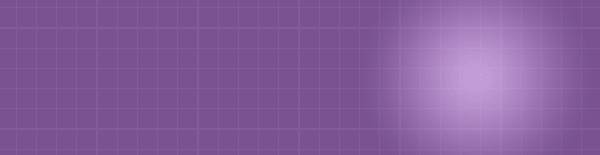 Лекция, реферат. Список литературы по философии смежных дисциплин - понятие и виды. Классификация, сущность и особенности.
Лекция, реферат. Список литературы по философии смежных дисциплин - понятие и виды. Классификация, сущность и особенности.
referatwork.ru
|
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|
|
|
|
|


