
Зигмунт Бауман
МЫСЛИТЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ
Перевод с английского под редакцией канд. философ. наук А. Ф. Филиппова
Учебная литература по гуманитарным и социальным дисциплинам для высшей школы России готовится и издается при содействии Института «Открытое общество» в рамках программы «Высшее образование».
Редакционный совет:
В. И. Бахмин, Я. М. Бергер, Е. Ю. Гениева, Г. Г. Дилигенский, В. Д. Шадриков
Перевод с английского:
С. П. Баньковской, А. Ф. Филиппова
К русскому читателю
У социологии славная история. Немногие другие дисциплины могут гордиться такой историей. И далеко не везде эта история славнее польской и российской истории социологии. В темную годину социология всегда была желанным лучом света…
Действительность, которую иные представляют как ниспосланную нам с небес или предписанную сверхчеловеческим разумом истории, социология видела как на самом деле временное, неоконченное творение вполне земных сил — человеческого ума и рук, иногда искусных, иногда не очень, а иногда и вовсе ни на что не способных. Как и сами люди, эта действительность не свободна от ошибок и отнюдь не безгрешна, но прелесть ее заключается в том, что именно люди, подумав да поднапрягшись, могут переделать ее, заменив чем-то лучшим или хотя бы более сносным.
В годы подавляющего единомыслия, когда слаженный газетный хор заглушал любой самостоятельный голос, социология стала своеобразным убежищем для общественного мнения — этого рассадника инакомыслия. Для официальных же блюстителей порядка она казалась властью власть неимущих, даже если кто-то из социологов и клялся им в своем верноподданничестве.
Во мраке и спичка ярко светит. В тот период полезность социологических исследований была, так сказать, гарантирована заранее, слава этой науке давалась легко, хотя и не всегда потому, что она априори обладает огромным гуманистическим потенциалом. Услуги социологии представлялись чем-то само собой разумеющимся в ситуации, когда, как говорят, все перекрестки ярко освещены. А вот об истинной пользе, которую могут принести людям, блуждающим в потемках, социологи (и только они), ослепленные множеством прожекторов, в те времена узнать так и не пришлось.
В России, как и в Польше, наступили новые времена, и другие проблемы стоят сегодня перед людьми. Не всегда они легче прежних, но всегда новые, требующие нового осмысления и новых навыков их решения. Свобода самоопределения дается нелегко и не всегда оказывается приятнее принуждения, но страдания свободных людей — это нечто совсем иное, нежели терпение рабов или крепостных. Может ли социология помочь в свободной жизни? Я убежден, что может. Кстати, эта книга и написана с той целью, чтобы показать: социологическое мышление способно стать силой свободного человека, о чем мы прежде даже не подозревали.
Если читатель найдет в книге отголоски собственных размышлений, терзаний, поисков, не вполне осознанных переживаний, встретит те же настойчиво повторяемые вопросы, то я могу считать, что задача, которую я ставил перед собой, выполнена. И себе, и вам, дорогие читатели, я искренне желаю, чтобы так оно и случилось.
Зигмунт Бауман, 14 сентября 1996 г.
Введение. Зачем нужна социология?
По-разному можно представлять себе социологию. Самый простой способ — вообразить длинный ряд библиотечных полок, до отказа забитых книгами. В названии либо в подзаголовке, или хотя бы в оглавлении всех книг встречается слово «социология» (именно поэтому библиотекарь поместил их в один ряд). На книгах — имена авторов, которые называют себя социологами, т. е. являются социологами по своей официальной должности как преподаватели или исследователи. Воображая себе эти книги и их авторов, можно представить определенную совокупность знаний, накопленных за долгие годы исследований и преподавания социологии. Таким образом, можно думать о социологии как о связующей традиции — определенной совокупности информации, которую каждый новообращенный в эту науку должен вобрать в себя, переварить и усвоить независимо от того, хочет он стать социологом-практиком или просто желает познакомиться с тем, что предлагает социология. А еще лучше можно представить себе социологию как нескончаемое число новообращенных — полки все время пополняются новыми книгами. Тогда социология — это непрерывная активность: пытливый интерес, постоянная проверка полученных знаний в новом опыте, непрекращающееся пополнение накопленного знания и его видоизменение в этом процессе.
Такое представление о социологии кажется вполне естественным и очевидным. В конце концов, именно так мы склонны отвечать на любой вопрос типа: «Что такое X?» Если, например, нас спросят: «Что такое лев?», то мы сразу покажем пальцем на клетку с определенным животным в зоопарке или на изображение льва на картинке в книжке. Или, когда иностранец спрашивает: «Что такое карандаш?», мы достаем из кармана определенный предмет и показываем его. В том и другом случае мы обнаруживаем связь между определенным словом и столь же определенным предметом и указываем на нее. Мы используем слова, соотносящиеся с предметами, как замену этих предметов: каждое слово отсылает нас к специфическому предмету, будь то животное или пишущее орудие. Нахождение предмета, «представляемого» нам с помощью слова, о котором спрашивают (т. е. нахождение референта слова), и является правильным и точным ответом на поставленный вопрос. Как только я нашел такой ответ, я знаю, как пользоваться до сих пор не знакомым мне словом: в соотношении с чем, в какой связи и при каких условиях. Ответ такого рода, о котором идет речь, учит меня только одному — как использовать данное слово.
Но вот чего мне не дает ответ на такого рода вопрос, так это знаний о самом предмете — о том предмете, на который мне указали как на референт интересующего меня слова. Я знаю только, как выглядит предмет, так что впоследствии я узнаю его в качестве предмета, вместо которого выступает теперь слово. Следовательно, существуют пределы — и довольно жесткие — знания, которому меня может научить метод «указывания пальцем». Если я обнаружу, какой именно предмет соотносится с названным словом, то мне, вероятно, сразу же захочется задать и следующие вопросы: «В чем особенность данного предмета?», «Чем он отличается от других предметов и насколько, почему требует специального названия?» — Это лев, а не тигр. Это карандаш, а не авторучка. Если называть данное животное львом правильно, а тигром — неправильно, то должно быть нечто такое, что есть у львов и чего нет у тигров (это нечто и делает львов тем, чем тигры не являются). Должно быть какое-то различие, отделяющее львов от тигров. И только исследовав это различие, мы сможем узнать, кто такие на самом деле львы, а такое знание отлично от простого знания о предмете, заменяемом словом «лев». Вот почему мы не можем быть полностью удовлетворены нашим первоначальным ответом на вопрос: «Что такое социология?»
libking.ru

З. Бауман.
Мыслить социологически.
АСПЕКТ ПРЕСС. МОСКВА. 1996.
Глава 1
Свобода и зависимость
Возможно, наиболее общим в нашем опыте является то, что мы одновременно и свободны, и несвободны, что, понятно, более всего нас смущает. Это, несомненно, — одна из наиболее сложных загадок человеческого существования, которую пытается разрешить социология.
Я свободен: я могу выбирать и делаю свой собственный выбор. Я могу продолжать читать эту книгу, а могу прекратить чтение и выпить чашку кофе. Или вообще забыть об этой книге и пойти прогуляться. Более того, я могу вообще отказаться от своего плана — изучать социологию и получить диплом, а вместо этого начать искать работу. Коль скоро я могу выбрать все это, то мое намерение прочитать данную книгу, изучить социологию и получить диплом в колледже есть результат моего выбора; это те направления действия, которые я выбрал из доступных мне альтернатив. Принятие решений свидетельствует о моей свободе. В самом деле, свобода означает способность решать и выбирать.
Даже если я особенно и не задумываюсь над своими выборами и принимаю решения, не размышляя глубоко над всеми другими возможностями действия, то другие люди напомнят мне о моей свободе. Мне скажут: «Ты сам так решил, и никто, кроме тебя, не отвечает за последствия» или «Никто не заставлял тебя делать это, поэтому винить можешь только себя!» Если же я сделаю что-то, чего другие мне не позволяли делать или от чего обычно воздерживаются (если я, так сказать, нарушу правило), то я могу быть наказан. Наказание подтвердит мою ответственность за то, что я сделал; оно подтвердит, что_я_мог, если бы захотел, воздержаться от нарушения правила. Я мог бы, например, явиться на занятие, а не отсутствовать без уважительной причины. Иногда мне говорят о моей свободе (и о моей ответственности) в более сложной для
26
моего восприятия форме, чем в приведенных примерах. Например, мне могут сказать, что я сам полностью виноват в том, что остаюсь безработным, а если бы как следует постарался, то смог бы наладить жизнь. Или что я мог бы стать совсем другим человеком, если бы разбился в лепешку ради достижения своей цели.
Если этих последних примеров недостаточно для того, чтобы заставить меня остановиться и задуматься, действительно ли я свободен и сам контролирую свою жизнь (я мог старательно искать работу, но не найти, поскольку не было ни одного предложения; или я мог изо всех сил пытаться начать другую карьеру, однако путь туда, куда я хотел, был для меня закрыт), то в моем жизненном опыте было достаточно много и других ситуаций, которые вполне ясно показали мне, что моя свобода фактически ограничена. Подобные ситуации "научили меня: одно дело— выбирать, что решать самому, какой цели следовать и стремиться всеми силами добиться ее; и совсем другое дело — иметь возможность действовать в соответствии с намеченной целью и достичь ее.
Во-первых, я прежде всего узнал, что и другие люди могут стремиться к тем же целям, что и я, но не все могут достичь их, поскольку количество того, что мы вce желаем, ограничено, т.е. меньше, чем людей, претендующих на него. Если же это тот случай, когда я оказываюсь вовлеченным в конкуренцию, то исход моего участия в ней зависит не только от моих усилий. Например, я могу претендовать на место в колледже, зная, что на каждое место претендуют двадцать абитуриентов, что большинство из них обладают необходимой подготовкой и тоже пользуются своей свободой разумно, т.е. делают именно то, что и должны делать люди, собирающиеся стать студентами. И тут окажется, что результаты моих и их усилий зависят от других людей — тех, кто решает, сколько мест предоставлять, кто оценивает навыки и усилия абитуриентов. Именно они устанавливают правила игры, в то же время являясь судьями, поскольку за ними остаётся последнее слово в отборе победителей. У них есть право отказать, и на этот раз их свобода выбора и принятия решений касается моей судьбы и судьбы моих соперников, т.е. именно их свобода, как оказывается, устанавливает пределы моей свободы. Мое положение зависит от того, какие они принимают решения относительно своих действий, что означает: их свобода выбора привносит элемент неопределенности в мою ситуацию. Данный фактор я не могу контролировать, он оказывает огромное влияние на результаты моих стараний. Я зависим от этих людей, потому что они контролируют ту самую
27
неопределенность. В конце экзаменационного дня именно они огласят вердикт о том, были ли мои усилия достаточными, чтобы быть принятым.
Во-вторых, я узнал, что моего решения и доброй воли еще недостаточно, если у меня нет средств для того, чтобы обеспечить осуществление своего решения. Например, в поисках работы я могу решить поехать на юг страны, где ее много, но потом обнаружить, что квартплата и налоги на юге непомерные и превышают мои средства. Или у меня может возникнуть желание убежать от мерзости запустения городских жилищ и обосноваться в зеленом, чистом пригороде, однако я вновь пойму, что не могу себе этого позволить, поскольку дома в лучших и вожделенных местах стоят больше, чем я могу себе позволить. Опять же, меня может неудовлетворять образование, которое получают мои дети в школе, и я могу пожелать, чтобы их обучали лучше. Но там, где я живу, может не оказаться другой школы, и мне скажут, что, если я хочу лучшего образования для своих детей, то мне следует послать их в более богатую, лучше оборудованную частную школу и заплатить взносы, которые зачастую бывают выше, чем весь мой доход. Эти примеры (как и многие другие, которых вы тоже сможете привести немало) говорят о том, что сама по себе свобода выбора еще не гарантирует свободу эффективно действовать по собственному выбору; еще меньше она обеспечивает свободу достижения желаемого результата. Для того чтобы действовать свободно, кроме свободной воли мне нужны еще и ресурсы.
Обычно такими ресурсами являются деньги, хотя они —не единственный ресурс, от которого зависит свобода действий. Может оказаться, что свобода действий в соответствии с моими желаниями зависит не от того, что я_делаю, и даже не от того, что я_имею, а от того, что я есть. Например, мне могут запретить войти в какой-нибудь клуб, не принять на работу из-за каких-то моих качеств, скажем, расы, пола, возраста или национальности. Ни одно из этих качеств не зависит ни от моей воли, ни от моих действий, и никакая свобода не позволит мне изменить их. Иначе говоря, доступ в клуб для меня, принятие на работу или в школу может зависеть от моих прежних заслуг (или от отсутствия таковых) — приобретенных навыков, диплома, стажа предшествующей работы, накопленного опыта или местного акцента, усвоенного в детстве и до сих пор не исправленного. В таких случаях я могу убедиться, что такие требования не совпадают с принципом моей свободы воли и ответственности за мои действия, поскольку отсутст-
28
вие навыка или послужного списка — это длящиеся по сей день последствия того, что я выбрал в прошлом. Теперь я ничего не могу поделать, чтобы изменить свой прежний выбор. Моя свобода сегодня ограничена прошлой свободой; я «предопределен», т.е. связан в настоящей своей свободе своими прошлыми действиями.
В-третьих, может оказаться (рано или поздно, но наверняка) что если я, скажем, британец и мой родной язык — английский, то уютнее всего я чувствую себя дома, среди людей, говорящих по-английски. И я не уверен, что в другом месте мои действия имели бы тот же эффект, как не уверен и в своих действиях, и потому чувствую себя несвободным. Я не могу свободно общаться, не понимаю смысла того, что делают другие люди, и я не знаю, что мне самому делать, чтобы выразить свои намерения и достичь желаемого результата. Я чувствую себя растерянным и во многих других ситуациях, не только при посещении других стран. Подобно этому, выходец из рабочей семьи может чувствовать себя неловко среди богатых соседей из среднего класса, или, например, будучи католиком, я могу обнаружить, что не могу жить, как тот, кто разделяет идею о свободе воли и обычаи, согласно которым разводы pi аборты признаются как вполне ординарные факты жизни. Если бы у меня было время поразмыслить над такого рода опытом, я, вероятно, пришел бы к выводу, что и та группа, в которой я чувствую себя как дома, тоже налагает ограничения на мою свободу. Именно в этой группе я наиболее полно могу осуществить свою свободу (что означает: только в ней я могу правильно оценить ситуацию и выбрать способ действия, приемлемый для других и вполне соответствующий ситуации). Однако уже сам факт, что я так хорошо приспособился к действиям в группе, к которой принадлежу, ограничивает мою свободу действий в огромном, плохо размеченном, зачастую отталкивающем и пугающем пространстве за пределами группы. Научив меня своим способам и приёмам, моя группа позволяет мне на практике действовать свободно. Но тем самым она ограничивает эту практику своей территорией, Таким образом, в том, что касается моей свободы, группа, к которой я принадлежу, играет неоднозначную роль. С одной стороны, она позволяет мне быть свободным; а с другой — ограничивает, очерчивая пределы моей свободы. Она позволяет мне быть свободным постольку, поскольку наделяет меня желаниями, кото-рые приемлемы и «реалистичны» внутри моей группы, учит выбирать способы действия, помогающие достичь желаемого, формирует у меня способность правильно понимать ситуацию и, сле-
29
довательно, точно ориентироваться относительно действий и намерений других людей, влияющих на результаты моих усилий. /В то же время эта группа фиксирует территорию, в пределах которой я могу правильно пользоваться своей свободой. И все то наследие, которым я ей обязан, все бесценные навыки, приобретенные в группе, превращаются из достоинств в препятствия в тот момент, когда я осмеливаюсь переступить границы своей группы и попадаю в иную среду, где поощряются другие желания, признается правильной другая тактика поведения, а связь между поведением людей и их намерениями не похожа на ту, к которой я привык.
Это, однако, не единственный вывод, который я мог бы сделать, если бы имел возможность и желание подумать над своим опытом. В частности, я мог бы обнаружить и нечто более обескураживающее, а именно: та_самая_группа, которая играет столь неоднозначную и все же важную роль в моей свободе, не является предметом моего свободного выбора. Я — член этой группы уже_в силу своего рождения в ней. Территория моего свободного действия" как таковая тоже невесть предмет моего свободного выбора. Группа, сделавшая меня свободным человеком и продолжающая охранять область моей свободы, взяла на себя и контроль над моей жизнью (над моими желаниями, целями, а также действиями, которые мне следует предпринимать, и действиями, от которых следует воздержаться, и т.п.). То, что я стал членом этой группы, не было актом моей свободы. Наоборот, это было проявлением моей зависимости. Я не могу решить, быть ли мне французом, или быть черным, или принадлежать к среднему классу. Я могу лишь принять это как свою судьбу — невозмутимо или смиренно; могу признать как неизбежность, предназначенье: смаковать и всячески превозносить его, решив извлечь из него все возможное — афишировать свое французское происхождение, гордиться красотой своего черного тела или вести себя в жизни осторожно и добропорядочно, как и подобает приличному представителю среднего класса. Однако если я захочу изменить свое состояние, предписанное группой, и стать каким-то иным, то мне придется стараться изо всех сил. Такое изменение потребует гораздо больше усилий, самопожертвования, решительности и выносливости, чем нормальная, спокойная и уютная жизнь соответственно воспитанию, полученному в той группе, в которой я был рожден. И тогда может оказаться, что моя собственная группа — это мой самый страшный противник в моей борьбе. Контраст между легкостью плавания по
30
течению и трудностью плавания против него и составляет секрет той власти, которую имеет надо мной моя группа, — секрет моей зависимости от нее.
Если я присмотрюсь внимательнее и составлю список всего, чем я обязан группе, к которой (к счастью или к несчастью) принадлежу, то он получится довольно длинным. Для краткости я могу разделить все, перечисленное в списке, на четыре большие категории. Во-первых, я разделю цели на те, осуществления которых стоит добиваться, и те, которые не стоят моих хлопот. Если бы мне довелось родиться в семье из среднего класса, то, скорее всего, я бы постарался получить высшее образование, потому что это казалось бы мне обязательным условием правильной, успешной, хорошей жизни; если бы мне случилось родиться в рабочей семье, то вполне вероятно, я бы рано бросил школу и занялся работой, которая не требует длительного обучения, но позволяет непосредственно «наслаждаться жизнью» и в дальнейшем, возможно, поддерживать семью. Таким образом, я беру у моей группы цель, ради достижения которой я должен приложить свою способность «свободного выбора». Во-вторых, средства, которые я использую, добиваясь какой-либо цели, внушенной мне группой, я тоже получаю от группы; они составляют мой «частный капитал», который я могу использовать для осуществления своих планов. Эти средству—речь и «язык тела, с помощью которых я сообщаю о своих намерениях другим, та энергия, с которой я посвящаю себя согласно каким-либо устремлениям, в отличие от других, и вообще это формы поведения, соответствующие, как считается, той задаче, которую я ставлю перед собой в жизни. В-третьих, критерий соответствия, т.е. искусство различать вещи и людей, соответствующих и не соответствующих поставленной мною задаче. Моя группа учит меня отличать моих союзников от врагов или соперников, равно как и от тех, кто ни тем, ни другим не является и кого я могу не принимать в расчет, пренебрегать и обращаться презрительно. И наконец, но не в последнюю очередь, это моя «карта мира», и то, что обозначено на ней, по сравнению с тем, что можно увидеть на картах других, на моей выглядит белыми пятнами. И все-таки эта карта помогает мне выбирать понятные жизненные маршруты — набор вполне реальных жизненных планов, подходящих для «людей вроде меня». В общем, я очень многим обязан моей группе, а главное — теми огромными знаниями, которые помогают мне каждый день и без которых я просто не смог бы жить.
31
В большинстве случаев я, фактически, не осознаю, что владею всеми этими богатыми знаниями. Если бы меня спросили, например, каким кодом я пользуюсь в общении с другими людьми и расшифровываю значение их действий по отношению ко мне, то, по всей вероятности, ничего вразумительного я бы не смог ответить. Я бы, наверное, просто не понял, о чем меня спрашивают, а если бы и понял, то не смог бы объяснить этот код (как не могу объяснить простейшие грамматические правила, хотя употребляю их точно, не задумываясь и без особого труда). Вот так и знания, которые нужны мне, чтобы справляться с повседневными жизненными проблемами, обитают где-то внутри меня. Они каким-то образом даны в мое распоряжение если не в виде правил, поддающихся формулировке, то как набор практических навыков, которыми я свободно пользуюсь изо дня в день всю мою жизнь.
Именно благодаря этим знаниям я чувствую себя уверенно, и мне не надо каждый раз искать правильные ходы. И если я свободно владею этими знаниями, даже не осознавая того, то только потому, что большую часть их основных понятий я усвоил еще в раннем детстве, из которого мы мало что помним. Вот почему, даже углубляясь в свой жизненный опыт или личные воспоминания, я почти ничего не могу сказать о том, как я приобрел эти знания. И именно из-за такой моей забывчивости относительно их происхождения они закрепились так основательно и возымели власть надо мной, что я воспринимаю их как само собой разумеющееся, как нечто «естественное» и никогда не сомневаюсь в них. Для того чтобы выяснить, как знания повседневной жизни формируются реально и затем «вручаются» мне группой, я должен обратиться к результатам исследований, проведенных профессиональными психологами и социологами. А обратившись к ним, я начинаю ощущать, что эти результаты настораживают: то, что казалось мне самоочевидным, само собой разумеющимся и естественным, теперь оказывается набором верований, в основе которых лежит лишь авторитет группы, одной из многих.
Пожалуй, никто так не содействовал осмыслению процесса интернализации, освоения групповых норм и стандартов, как американский социальный психолог Джордж Герберт Мид. Прежде всего он ввел основные понятия для описания процесса получения важнейших навыков социальной жизни, и с тех пор эти понятия широко используются в социологии. Самыми известными среди них являются понятия «I» («Я») и «Me» («Меня», «Мне»), отражающие двойственность личности, как бы разделенность ее на две
32
части: внешнюю (точнее, ту, которая, как кажется человеку, привносится извне, из общества, его окружающего, в видетребаваний и образцов поведения) часть личности, т.е «Ме»; другая же часть, «I» —это внутренний стержень личности, с позиций которого рассматриваются, оцениваются, накапливаются и окончательно оформляются внешние социальные требования и ожидания. Роль, которую играет группа в формировании личности, проявляется посредством «Me». Дети знают, что за ними наблюдают, их оценивают, наказывают, заставляют вести себя определенным образом, наставляют на путь истинный, если они выбиваются из колеи. Этот опыт откладывается в личности растущего ребенка, концентрируясь в образе тех ожиданий, которые предъявляют к нему (или к ней) другие. Они — другие — видимо, имеют какое-то средство для того, чтобы различать правильное и неправильное поведение. Они поощряют правильное поведение и наказывают неправильное как отклонение от нормы. Воспоминания о поощряемых и наказуемых действиях постепенно смешиваются в неосознанное понимание правила — что ожидают и чего не ждут — внутри «Me», которое является не чем иным, как образом личности, сложившимся об этом человеке как личности у других. Более того, «другие» — это не любые и не случайно попавшие в его окружение. Из множества людей, с которыми ребенок вступает в контакты, он как личность выбирает лишь некоторых, значимых других, а именно тех, чьи оценки и реакции значат для него гораздо больше, чем оценки кого бы то ни было, их оценки более устойчивы, постоянны и воспринимаются острее, а потому они и более эффективны.
Из сказанного можно было бы сделать неверное заключение, будто развитие личности путем обучения и воспитания — это пассивный процесс и будто эту работу делают другие, и только они, напичкивая ребенка всякими предписаниями и — с помощью кнута или пряника — уговаривая и заставляя послушно следовать им. На самом деле все обстоит иначе. Ребенок как личность формируется во взаимодействии со средой. Активность и инициатива характерны для обеих_сторон_этого взаимодействия. И едва ли может быть иначе. Одно из первых открытий, которые должен сделать для себя ребенок, это то, что «другие» различаются между собой. Они редко видят друг друга в глаза и отдают команды, не согласующиеся между собой, а потому и не выполнимые одновременно. Во многих случаях выполнение одной команды невозможно без отмены другой. В числе первых навыков, которые должен усвоить ребе-
33
нок, следует назвать навыки отбора и отсева; такие навыки нельзя усвоить, не развив способности отвергать и выдерживать нажим, занимать позицию, сопротивляться действию хотя бы части внешних сил. Другими словами, ребенок учится выбирать и принимать ответственность за свои действия. Как раз эту способность и представляет собой та часть личности, которую именуют «I». Зная о противоречивости и непоследовательности содержания «Me» (в силу противоречивости сигналов об ожиданиях, поступающих мне от различных значимых других) «I» должен отстраниться, дистанцироваться и взглянуть на внешние принуждения, воспринятые моим «Me», как бы со стороны; проверить их, классифицировать и оценить. В конечном счете именно «I» делает выбор и тем самым становится истинным, полноправным «автором» предпринимаемого действия. Чем сильнее «I», тем более автономна личность ребенка. Сила «I» проявляется в способности и готовности личности подвергать социальное давление, которое усваивает, интернализует ее «Me», сомнениям, проверять его истинную силу и пределы, испытывать и принимать последствия.
Важнейшая задача различения «Me» и «I» (т.е. возникающей у ребенка как личности способности наблюдать, отслеживать, осмыслять требования значимых других) решается благодаря активности ребенка в процессе исполнения им своей роли. Играя роли других, например матери или отца, воспроизводя их поведение (включая их поступки по отношению к самому ребенку), он учится искусству смотреть на действие как на воспринятую роль, т.е. нечто такое, которое можно делать, а можно и не делать; действие означает поступок, соответствующий ситуации, и в зависимости от ситуации оно может меняться. Но тот, кто действует подобным образом, еще не настоящий я — не «I». По мере того, как дети подрастают и накапливают знание о различных ролях, они все увереннее участвуют в играх, в которых есть не только простое исполнение роли, но и элементы кооперации и координации с другими исполнителями ролей. Ребенок все чаще пробует себя в искусстве, самом главном для истинно независимой личности, — в выборе соответствующего характера действия в ответ на действия других, в побуждении или принуждении других действовать так, как нужно ему.
Благодаря исполнению ролей, игры ребенок приобретает привычки и навыки, навязываемые ему извне социальным миром, и вместе с тем способность действовать в этом мире как свободная — независимая и ответственная — личность. В этот период
34
ребенок вызывает особое, двойственное отношение к себе, которое мы все хорошо знаем: он — ставшая личность (смотрит на свое собственное поведение как бы со стороны, одобряя или осуждая его, пытаясь контролировать и, если необходимо, исправлять) и одновременно он — становящаяся личность (спрашивает себя: «Что я представляю собой на самом деле?», «Кто я такой?», время от времени восставая против навязываемой ему другими людьми модели поведения, стремясь вместо нее к тому, что он называет «настоящей жизнью», соответствующей его истинной индивидуальности). Я ощущаю противоречие между свободой и зависимостью как внутренний конфликт между тем, что я хочу делать, и тем, что я обязан делать, следуя тому, что значимые другие сделали из меня (или намеревались сделать).
Значимые другие не лепят личность ребенка из ничего; они, скорее, запечатлевают свой образ мира на «естественных» (досоциальных, или, точнее, довоспитательных) предрасположенностях ребенка. И хотя в целом такие предрасположенности — инстинкты и влечения — играют в человеческой жизни меньшую роль, чем в жизни животных, тем не менее они присутствуют в биологическом наследии каждого новорожденного человеческого существа. Что это за инстинкты — вопрос спорный. Ученые расходятся во мнениях, причем их точки зрения разнятся достаточно сильно: от попыток объяснить большую часть якобы социально навязанного поведения только причинами биологического характера (биологическими детерминантами) до веры в почти безграничные возможности социального преобразования человеческого поведения. И все же большинство ученых, скорее, поддерживает притязания общества на его право устанавливать и навязывать стандарты приемлемого поведения, равно как и сам аргумент, поддерживающий эти притязания: социальное обучение необходимо, поскольку естественные предрасположенности людей делают их совместное существование либо невозможным, либо чреватым насилием и опасностями. Большинство ученых согласны с тем, что воздействие некоторых естественных влечений особенно сильно, и потому определенная группа людей должна тем или иным способом сдерживать их. Чаще всего в качестве таких влечений, которые весьма рискованно оставлять без контроля, называют сексуальные и агрессивные влечения. Ученые отмечают, что если бы им дали полную свободу, то в результате они привели бы к конфликтам такой силы, которую не смогла бы сдержать ни одна группа, и социальная жизнь вряд ли была бы возможна.
35
Все выжившие группы должны были сформировать, как нам говорят, эффективные способы приручения, сдерживания и подавления, которые позволяют контролировать проявления этих влечений. Зигмунд Фрейд — основатель психоанализа — предположил, что весь процесс саморазвития и социальной организации групп людей можно объяснить, исходя из необходимости и потребности практических усилий для контроля за проявлениями социально опасных влечений, особенно сексуальных и агрессивных инстинктов. Фрейд полагал, что инстинкты неуничтожимы, их нельзя разрушить, а можно только «подавить», вытеснить в подсознание. В этом чистилище их удерживает «суперэго»,* усвоенное, интернализованное индивидом знание требований и принуждающих воздействий со стороны группы. Фрейд метафорически назвал «суперэго» «гарнизоном, оставленным в завоеванном городе» победоносной армией общества, чтобы держать в постоянном подчинении подавленные инстинкты — подсознательное. Само «эго», таким образом, оказывается между двумя силами: инстинктами, вытесненными в подсознание, но все еще могущественными и мятежными, с одной стороны, и «суперэго» (родственное мидовскому «Me»), вынуждающего «эго» (родственное мидовскому «I») держать влечения в подсознании и предотвращать их побег из заточения. Норберт Элиас, германско-британский социолог, который проанализировал гипотезы Фрейда в обширном историческом исследовании, предположил, что личностный, индивидуальный опыт, имеющийся у каждого из нас, происходит именно из этого двойного давления. Уже упомянутое двойственное отношение к нашей собственной личности проистекает из двойственности (амбивалентности) того положения, в которое нас загоняют два побуждения, действующие в противоположных направлениях. Живя в группе, я должен контролировать себя. Личность есть нечто, которое необходимо контролировать, и я — один из тех, кто должен это делать...
Несомненно, все общества контролируют естественные наклонности своих членов и делают все, чтобы сохранить определенный уровень допустимых взаимодействий. Однако менее определенны наши знания относительно другого вопроса, а именно: только ли нездоровые, антисоциальные стороны естественных задатков подавляются в этом процессе (хотя именно это и заявляют власти,
От латинского ego — я. (Прим. перев.)
36
выступающие от имени всего общества). Насколько нам известно, нет достаточно определенных свидетельств того, что человек по природе своей агрессивен и потому его надо укрощать и приручать. То, что пытаются представить как вспышку естественной агрессивности, зачастую оказывается лишь стремлением выплеснуть бессердечие и ненависть — качества, имеющие скорее социальное, нежели генетическое, происхождение. Другими словами, если верно утверждение, что группы обучают своих членов определенным навыкам поведения и контролируют его, то из него отнюдь не следует, что они тем самым делают их поведение более человечным и нравственным. Это означает только, что в результате такого «натаскивания», надзора и корректировок поведение члена группы лучше приспосабливается к образцам, которые в данной социальной группе признаются правильными и поощряются.
studfiles.net
Сделайте краткий конспект нижеприведенных текстов, акцентируя внимание на вопросах, представленных ниже. В качестве вывода дайте своё объяснение почему эти тексты даются к тому курсу «Культурология», который был представлен на лекциях
I.
З. Бауман. «Мыслить социологически»
Глава 1. (Фрагмент)
Возможно, наиболее общим в нашем опыте является то, что мы одновременно и свободны, и несвободны, что, понятно, более всего нас смущает. Это, несомненно, — одна из наиболее сложных загадок человеческого существования, которую пытается разрешить социология.
Я свободен: я могу выбирать и делаю свой собственный выбор. Я могу продолжать читать эту книгу, а могу прекратить чтение и выпить чашку кофе. Или вообще забыть об этой книге и пойти прогуляться. Более того, я могу вообще отказаться от своего плана — изучать социологию и получить диплом, а вместо этого начать искать работу. Коль скоро я могу выбрать все это, то мое намерение прочитать данную книгу, изучить социологию и получить диплом в колледже есть результат моего выбора; это те направления действия, которые я выбрал из доступных мне альтернатив. Принятие решений свидетельствует о моей свободе. В самом деле, свобода означает способность решать и выбирать.
Даже если я особенно и не задумываюсь над своими выборами и принимаю решения, не размышляя глубоко над всеми другими возможностями действия, то другие люди напомнят мне о моей свободе. Мне скажут: “Ты сам так решил, и никто, кроме тебя, не отвечает за последствия” или “Никто не заставлял тебя делать это, поэтому винить можешь только себя!” Если же я сделаю что-то, чего другие мне не позволяли делать или от чего обычно воздерживаются (если я, так сказать, нарушу правило), то я могу быть наказан. Наказание подтвердит мою ответственность за то, что я сделал; оно подтвердит, что я мог, если бы захотел, воздержаться от нарушения правила. Я мог бы, например, явиться на занятие, а не отсутствовать без уважительной причины. Иногда мне говорят о моей свободе (и о моей ответственности) в более сложной для моего восприятия форме, чем в приведенных примерах. Например, мне могут сказать, что я сам полностью виноват в том, что остаюсь безработным, а если бы как следует постарался, то смог бы наладить жизнь. Или что я мог бы стать совсем другим человеком, если бы разбился в лепешку ради достижения своей цели.
Если этих последних примеров недостаточно для того, чтобы заставить меня остановиться и задуматься, действительно ли я свободен и сам контролирую свою жизнь (я мог старательно искать работу, но не найти, поскольку не было ни одного предложения; или я мог изо всех сил пытаться начать другую карьеру, однако путь туда, куда я хотел, был для меня закрыт), то в моем жизненном опыте было достаточно много и других ситуаций, которые вполне ясно показали мне, что моя свобода фактически ограничена. Подобные ситуации научили меня: одно дело — выбирать, что решать самому, какой цели следовать и стремиться всеми силами добиться ее; и совсем другое дело — иметь возможность действовать в соответствии с намеченной целью и достичь ее.
Во-первых, я прежде всего узнал, что и другие люди могут стремиться к тем же целям, что и я, но не все могут достичь их, поскольку количество того, что мы все желаем, ограничено, т.е. меньше, чем людей, претендующих на него. Если же это тот случай, когда я оказываюсь вовлеченным в конкуренцию, то исход моего участия в ней зависит не только от моих усилий. Например, я могу претендовать на место в колледже, зная, что на каждое место претендуют двадцать абитуриентов, что большинство из них обладают необходимой подготовкой и тоже пользуются своей свободой разумно, т.е. делают именно то, что и должны делать люди, собирающиеся стать студентами. И тут окажется, что результаты моих и их усилий зависят от других людей — тех, кто решает, сколько мест предоставлять, кто оценивает навыки и усилия абитуриентов. Именно они устанавливают правила игры, в то же время являясь и судьями, поскольку за ними остается последнее слово в отборе победителей. У них есть право отказать, и на этот раз их свобода выбора и принятия решений касается моей судьбы и судьбы моих соперников, т.е. именно их свобода, как оказывается, устанавливает пределы моей свободы. Мое положение зависит от того, какие они принимают решения относительно своих действий, что означает: их свобода выбора привносит элемент неопределенности в мою ситуацию. Данный фактор я не могу контролировать, он оказывает огромное влияние на результаты моих стараний. Я зависим от этих людей, потому что они контролируют ту самую неопределенность. В конце экзаменационного дня именно они огласят вердикт о том, были ли мои усилия достаточными, чтобы быть принятым.
Во-вторых, я узнал, что моего решения и доброй воли еще недостаточно, если у меня нет средств для того, чтобы обеспечить осуществление своего решения. Например, в поисках работы я могу решить поехать на юг страны, где ее много, но потом обнаружить, что квартплата и налоги на юге непомерные и превышают мои средства. Или у меня может возникнуть желание убежать от мерзости запустения городских жилищ и обосноваться в зеленом, чистом пригороде, однако я вновь пойму, что не могу себе этого позволить, поскольку дома в лучших и вожделенных местах стоят больше, чем я могу себе позволить. Опять же, меня может не удовлетворять образование, которое получают мои дети в школе, и я могу пожелать, чтобы их обучали лучше. Но там, где я живу, может не оказаться другой школы, и мне скажут, что, если я хочу лучшего образования для своих детей, то мне следует послать их в более богатую, лучше оборудованную частную школу и заплатить взносы, которые зачастую бывают выше, чем весь мой доход. Эти примеры (как и многие другие, которых вы тоже сможете привести немало) говорят о том, что сама по себе свобода выбора еще не гарантирует свободу эффективно действовать по собственному выбору; еще меньше она обеспечивает свободу достижения желаемого результата. Для того чтобы действовать свободно, кроме свободной воли мне нужны еще и ресурсы.
Обычно такими ресурсами являются деньги, хотя они — не единственный ресурс, от которого зависит свобода действий. Может оказаться, что свобода действий в соответствии с моими желаниями зависит не от того, что я делаю, и даже не от того, что я имею, а от того, что я есть. Например, мне могут запретить войти в какой-нибудь клуб, не принять на работу из-за каких-то моих качеств, скажем, расы, пола, возраста или национальности. Ни одно из этих качеств не зависит ни от моей воли, ни от моих действий, и никакая свобода не позволит мне изменить их. Иначе говоря, доступ в клуб для меня, принятие на работу или в школу может зависеть от моих прежних заслуг (или от отсутствия таковых) — приобретенных навыков, диплома, стажа предшествующей работы, накопленного опыта или местного акцента, усвоенного в детстве и до сих пор не исправленного. В таких случаях я могу убедиться, что такие требования не совпадают с принципом моей свободы воли и ответственности за мои действия, поскольку отсутствие навыка или послужного списка — это длящиеся по сей день последствия того, что я выбрал в прошлом. Теперь я ничего не могу поделать, чтобы изменить свой прежний выбор. Моя свобода сегодня ограничена прошлой свободой; я “предопределен”, т.е. связан в настоящей своей свободе своими прошлыми действиями.
В-третьих, может оказаться (рано или поздно, но наверняка), что, если я, скажем, британец и мой родной язык — английский, то уютнее всего я чувствую себя дома, среди людей, говорящих по-английски. И я не уверен, что в другом месте мои действия имели бы тот же эффект, как не уверен и в своих действиях, и потому чувствую себя несвободным. Я не могу свободно общаться, не понимаю смысла того, что делают другие люди, и я не знаю, что мне самому делать, чтобы выразить свои намерения и достичь желаемого результата. Я чувствую себя растерянным и во многих других ситуациях, не только при посещении других стран. Подобно этому, выходец из рабочей семьи может чувствовать себя неловко среди богатых соседей из среднего класса, или, например, будучи католиком, я могу обнаружить, что не могу жить, как тот, кто разделяет идею о свободе воли и обычаи, согласно которым разводы и аборты признаются как вполне ординарные факты жизни. Если бы у меня было время поразмыслить над такого рода опытом, я, вероятно, пришел бы к выводу, что и та группа, в которой я чувствую себя как дома, тоже налагает ограничения на мою свободу. Именно в этой группе я наиболее полно могу осуществить свою свободу (что означает: только в ней я могу правильно оценить ситуацию и выбрать способ действия, приемлемый для других и вполне соответствующий ситуации). Однако уже сам факт, что я так хорошо приспособился к действиям в группе, к которой принадлежу, ограничивает мою свободу действий в огромном, плохо размеченном, зачастую отталкивающем и пугающем пространстве за пределами группы. Научив меня своим способам и приемам, моя группа позволяет мне на практике действовать свободно. Но тем самым она ограничивает эту практику своей территорией.
Таким образом, в том, что касается моей свободы, группа, к которой я принадлежу, играет неоднозначную роль. С одной стороны, она позволяет мне быть свободным; а с другой — ограничивает, очерчивая пределы моей свободы. Она позволяет мне быть свободным постольку, поскольку наделяет меня желаниями, которые приемлемы и “реалистичны” внутри моей группы, учит выбирать способы действия, помогающие достичь желаемого, формирует у меня способность правильно понимать ситуацию и, следовательно, точно ориентироваться относительно действий и намерений других людей, влияющих на результаты моих усилий. В то же время эта группа фиксирует территорию, в пределах которой я могу правильно пользоваться своей свободой. И все то наследие, которым я ей обязан, все бесценные навыки, приобретенные в группе, превращаются из достоинств в препятствия в тот момент, когда я осмеливаюсь переступить границы своей группы и попадаю в иную среду, где поощряются другие желания, признается правильной другая тактика поведения, а связь между поведением людей и их намерениями не похожа на ту, к которой я привык.
Это, однако, не единственный вывод, который я мог бы сделать, если бы имел возможность и желание подумать над своим опытом. В частности, я мог бы обнаружить и нечто более обескураживающее, а именно: та самая группа, которая играет столь неоднозначную и все же важную роль в моей свободе, не является предметом моего свободного выбора. Я — член этой группы уже в силу своего рождения в ней. Территория моего свободного действия как таковая тоже не есть предмет моего свободного выбора. Группа, сделавшая меня свободным человеком и продолжающая охранять область моей свободы, взяла на себя и контроль над моей жизнью (над моими желаниями, целями, а также действиями, которые мне следует предпринимать, и действиями, от которых следует воздержаться, и т.п.). То, что я стал членом этой группы, не было актом моей свободы. Наоборот, это было проявлением моей зависимости. Я не могу решить, быть ли мне французом, или быть черным, или принадлежать к среднему классу. Я могу лишь принять это как свою судьбу — невозмутимо или смиренно; могу признать как неизбежность, предназначенье: смаковать и всячески превозносить его, решив извлечь из него все возможное — афишировать свое французское происхождение, гордиться красотой своего черного тела или вести себя в жизни осторожно и добропорядочно, как и подобает приличному представителю среднего класса. Однако если я захочу изменить свое состояние, предписанное группой, и стать каким-то иным, то мне придется стараться изо всех сил. Такое изменение потребует гораздо больше усилий, самопожертвования, решительности и выносливости, чем нормальная, спокойная и уютная жизнь соответственно воспитанию, полученному в той группе, в которой я был рожден. И тогда может оказаться, что моя собственная группа — это мой самый страшный противник в моей борьбе. Контраст между легкостью плавания по течению и трудностью плавания против него и составляет секрет той власти, которую имеет надо мной моя группа, — секрет моей зависимости от нее.
Если я присмотрюсь внимательнее и составлю список всего, чем я обязан группе, к которой (к счастью или к несчастью) принадлежу, то он получится довольно длинным. Для краткости я могу разделить все, перечисленное в списке, на четыре большие категории. Во-первых, я разделю цели на те, осуществления которых стоит добиваться, и те, которые не стоят моих хлопот. Если бы мне довелось родиться в семье из среднего класса, то, скорее всего, я бы постарался получить высшее образование, потому что это казалось бы мне обязательным условием правильной, успешной, хорошей жизни; если бы мне случилось родиться в рабочей семье, то вполне вероятно, я бы рано бросил школу и занялся работой, которая не требует длительного обучения, но позволяет непосредственно “наслаждаться жизнью” и в дальнейшем, возможно, поддерживать семью. Таким образом, я беру у моей группы цель, ради достижения которой я должен приложить свою способность “свободного выбора”. Во-вторых, средства, которые я использую, добиваясь какой-либо цели, внушенной мне группой, я тоже получаю от группы; они составляют мой “частный капитал”, который я могу использовать для осуществления своих планов. Эти средства — речь и “язык тела”, с помощью которых я сообщаю о своих намерениях другим, та энергия, с которой я посвящаю себя согласно каким-либо устремлениям, в отличие от других, и вообще это формы поведения,соответствующие, как считается, той задаче, которую я ставлю перед собой в жизни. В-третьих, критерий соответствия, т.е. искусство различать вещи и людей, соответствующих и не соответствующих поставленной мною задаче. Моя группа учит меня отличать моих союзников от врагов или соперников, равно как и от тех, кто ни тем, ни другим не является и кого я могу не принимать в расчет, пренебрегать и обращаться презрительно. И наконец, но не в последнюю очередь, это моя “карта мира”, и то, что обозначено на ней, по сравнению с тем, что можно увидеть на картах других, на моей выглядит белыми пятнами. И все-таки эта карта помогает мне выбирать понятные жизненные маршруты — набор вполне реальных жизненных планов, подходящих для “людей вроде меня”. В общем, я очень многим обязан моей группе, а главное — теми огромными знаниями, которые помогают мне каждый день и без которых я просто не смог бы жить.
В большинстве случаев я, фактически, не осознаю, что владею всеми этими богатыми знаниями. Если бы меня спросили, например, каким кодом я пользуюсь в общении с другими людьми и расшифровываю значение их действий по отношению ко мне, то, по всей вероятности, ничего вразумительного я бы не смог ответить Я бы, наверное, просто не понял, о чем меня спрашивают, а если бы и понял, то не смог бы объяснить этот код (как не могу объяснить простейшие грамматические правила, хотя употребляю их точно, не задумываясь и без особого труда). Вот так и знания, которые нужны мне, чтобы справляться с повседневными жизненными проблемами, обитают где-то внутри меня. Они каким-то образом даны в мое распоряжение если не в виде правил, поддающихся формулировке, то как набор практических навыков, которыми я свободно пользуюсь из дня в день всю мою жизнь.
Именно благодаря этим знаниям я чувствую себя уверенно, и мне не надо каждый раз искать правильные ходы. И если я свободно владею этими знаниями, даже не осознавая того, то только… потому, что большую часть их основных понятий я усвоил еще в раннем детстве, из которого мы мало что помним. Вот почему, даже углубляясь в свой жизненный опыт или личные воспоминания, я почти ничего не могу сказать о том, как я приобрел эти знания. И именно из-за такой моей забывчивости относительно их происхождения они закрепились так основательно и возымели власть надо мной, что я воспринимаю их как само собой разумеющееся, как нечто “естественное” и никогда не сомневаюсь в них. Для того чтобы выяснить, как знания повседневной жизни формируются реально и затем “вручаются” мне группой, я должен обратиться к результатам исследований, проведенных профессиональными психологами и социологами. А обратившись к ним, я начинаю ощущать, что эти результаты настораживают: то, что казалось мне самоочевидным, само собой разумеющимся и естественным, теперь оказывается набором верований, в основе которых лежит лишь авторитет группы, одной из многих.
II. Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. — М.: "Ключ-С", 1999
фрагмент
2. Человек и его тело
Современные социологи и антропологи исходят из представления о человеке как о существе, имеющем тело. Сведение человека к сознанию, к духовности ничем не лучше, чем приравнивание его к животному.
Социальное различие всегда проявляется на телесном уровне. Тело — посредник между биологическим и социальным, индивидуальным и социальным. Недаром наблюдателя над социальной жизнью поражает одновременно индивидуальность лиц и тел и подчиненность некоторой модели. Каковы формы этой подчиненности?
Само по себе тело может быть представлено как текст, как реализация знаковой (означающей) деятельности. Мы можем «читать» тела как книгу. Не только характер людей той или иной эпохи, но сами телесные качества сформированы соответствующими стилями жизни, а потому неподражаемы и не воспроизводимы. Это касается не только наружности, но и способов жестикуляции, преобладающих поз, форм сексуальности. Недаром исторические фильмы часто кажутся фальшивыми. Складывается впечатление, что мы видим перед собой современных людей, лишь обряженных в исторический костюм. Достаточно ли одеть женщину в платье a la Ватто и нарумянить ей щеки, чтобы она стала женщиной XVIII века?
Не существует «чистого природного тела», тела вне истории общества. С началом жизни культура начинает формировать, структурировать и регулировать тело в его физических, биологических потребностях и функциях. Значения жестов, которые кажутся данными от природы, на деле конвенциональны (социально и культурно обусловлены). Человеческое тело — результат взаимного процесса биологического и социокультурного развития.
Замечательный французский антрополог М. Мосс писал о техниках тела как традиционных действенных актах, отличных от актов магических, религиозных, символических. До инструментальных техник существует совокупность техник тела. Тело — первый и естественный инструмент человека. Техники тела — то, как люди ходят, смотрят, спят, поднимаются, спускаются с горы, бегают, представляют себя другим и перед другими. В каждой культуре есть движения дозволенные и недозволенные, естественные и «неестественные».
Например, мы приписываем разную ценность пристальному взгляду: это символ вежливости в армии и невежливости в гражданской жизни. Существует не только разделение труда между полами, но и соответствующее разделение техник тела. Женщина и мужчина по-разному сидят, по-разному сжимают кулак. Дети и представители неевропейских культур легко и часто садятся на корточки. Взрослые европейцы этого делать не умеют. Историки культуры обращают внимание на разные формы акушерства. Мы считаем нормальными роды в положении на спине. В других культурах женщина рожает стоя или сидя. Посетители этнографических музеев могут легко убедиться в том, сколь различны у разных народов формы колыбели. Существуют культурно различные техники сна. Одни народы и даже социальные группы используют изголовья, другие нет. Одни укрываются во время сна, другие нет. Существуют разные техники ходьбы и бега, прыжка, плавания, толкания, перетаскивания и поднятия тяжестей, не говоря уже о танце. Выдающееся событие в воспитании тела — инициация. В юности и мужчины и женщины окончательно усваивают техники тела, которые сохраняются в течение всей взрослой жизни и воспринимаются как «естественные»(См.: Мосс М. Техники тела // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. – М., 1996.).
Движения, которые кажутся инстинктивными, сформированы культурой (питание, гигиена, сами способы удовлетворения естественных потребностей). И традиционное, от века заданное питание, и те новые виды еды, которые поставляются в супермаркеты со всех концов мира, формируют тела в то время, как их питают. Еда налагает на тела форму и мускульный тонус, которые действуют подобно личному удостоверению.
Европейцы, принимая пищу, сидят на стуле за столом, пользуются ложкой и вилкой. Принадлежащие к азиатским культурам предпочтут есть руками, сидя на ковре. То же относится к системам мимики и жестов. Напомним: в русской культуре покачивание головой значит «нет», а кивок означает «да», в болгарской — все наоборот.
Ноги человека, который никогда не носил обувь, естественно, отличаются от ног человека, который без обуви обходиться не может. Натруженные руки человека физического труда так не похожи на руки пианиста.
…К данному природой телу люди все время что-то прибавляют (удлиняют ресницы, отращивают бороду, раскрашивают лицо и тело, одевают его и т.д.) или убавляют (удаляют волосы, бреют бороду, обнажают то ноги, то грудь).Хорошо известен знаковый характер того или иного типа бороды, усов, прически. Привычные для нас короткие волосы у мужчин в XVIII в. воспринимались как эпатаж, стремление противопоставить себя «всем остальным».
Известный историк русской культуры Ф. Буслаев отмечал, что в России XVI – XVII вв. считалось: человек, сбривший бороду, становится неправославным, нерусским, еретиком и растлителем добрых нравов. Ношение бороды связано с желанием четко обозначить половую идентичность.
Одна из самых известных форм подчинения «социальному правилу» — манера одеваться. Одежда, в которую человек окутывает тело, является продолжением тела, «протезом». Одежда может быть рассмотрена в качестве инструмента, посредством которого тела подчиняются социальному правилу. Благодаря своему костюму биологический индивид как бы проецируется на арену общественной жизни. В традиционных обществах за каждым социальным слоем был жестко закреплен тип одежды. В обществах современных по одежде уже не так просто определить принадлежность человека к группе, однако это возможно. Сегодня распространена готовая одежда, но мы легко определяем, где, в каком магазине или на рынке, она куплена. Соответственно мы оцениваем и классифицируем (хотя бы предварительно) того, кто эту одежду носит. Исследования истории моды, жизненных стилей, способов представления человеком себя очень значимы для исследования изменения общества.
Автомобиль или карету можно уподобить корсету, т.к. они тоже формируют, налагают форму, заставляют соответствовать «правильной позе». Стаканы, сигареты и обувь по-своему придают форму физическому «портрету».
Исследуя техники тела, мы не можем не выйти в пространство, окружающее человека, к тому, что составляет стиль жизни, тип
повседневности. Различие обществ в наибольшей степени ощущается при погружении в практики повседневной жизни. Знаменитый историк Ф. Бродель пишет: «Мы могли бы отправиться к Вольтеру в Ферне... и долго с ним беседовать, не испытав великого изумления. В плане идей люди XVIII в. — наши современники; их дух, их страсти все еще остаются достаточно близки к нашим, для того чтобы нам не ощутить себя в ином мире. Но если бы хозяин Ферне оставил нас у себя на несколько дней, нас сильнейшим образом поразили бы все детали повседневной жизни, даже его уход за своей особой. Между ним и нами возникла бы чудовищная пропасть»( Бродель Ф. Структуры повседневности: Возможное и невозможное. – М., 1986. – С. 38).Есть ли предел машинерии, посредством которой общество себя представляет в живых существах и делает их самих представлениями социального? Где кончается дисциплинарный аппарат, который перемещает и исправляет, добавляет и удаляет что-то к телу и из тела? Где начинается добровольное, свободное действие? По правде говоря, люди становятся людьми, лишь подчиняясь правилу, коду, закону. Человек — бессознательный пленник языков общества и культуры перед лицом своего ежедневного куска хлеба или чашки риса. Где обнаружить телесное, которое не было бы записано, переделано, окультурено, идентифицировано посредством различных инструментов, которые являются частями символического социального кода? Возможно, в крайних пределах этих неустанных записей остается только крик. Да и там мы снова обнаруживаем социальное различие: крик ребенка, крик сумасшедшего, крик подвергнутого пытке...
Социальный код и закон заставляют держать тело в пределах нормы, «проговаривать порядок» (Э. Дюркгейм). Любой человек, как правило, стремится выглядеть «нормально». Если он этого не делает, то, как правило, знает, чем рискует.
В XX в. исследователи человека говорят о «записи закона на теле» (М. Фуко, М. Де Серто и др.). Способы записывания издавна изучались в социальной (культурной) антропологии. Инструменты такой записи многообразны. В дописьменных культурах, где нет ни специализированных социальных институтов, ни государства, социальность (культура) записывается на живом теле с помощью раскраски или посредством татуировальной иглы. Нож, наносящий шрамы при инициации, служит той же цели. Напомним о длинной истории розги. Современный диапазон этих инструментов включает полицейские дубинки и наручники, клетку для подсудимого в зале суда и т.д. Все эти инструменты образуют линию отношений между правилами и телами. Это серия объектов, цель которых — вписать силу закона в тело социального агента.
…Обществу недостаточно бумаги, закон и правило записывают на теле. Эта запись осуществляется через боль и удовольствие. Тело человека превращается в символ социального, того, что сказано, названо, чему дано имя. Акт страдания странным образом сопровождается удовольствием от того, что тебя распознали (правда, никто не знает, кто именно распознает!). Отчего возникает удовольствие от превращения себя самого в идентифицируемое и законное слово социального языка, во фрагмент анонимного текста, от вписанности в символический порядок, у которого нет ни автора, ни хозяина? Печатный текст лишь повторяет этот двойственный опыт тела, на котором записан закон(См.: De Certeau M. The Practice of Everyday Life. – Berkeley, 1988.).
Нет закона, который бы не был вписан в тело и не властвовал бы над ним. Сама идея, что индивид может быть изолирован от группы, была установлена в уголовном наказании в связи с потребностью иметь тело, маркированное наказанием. Мы можем перечислить многообразные формы такого маркирования: от клеймения преступника до изоляции его от общества. Чем отличается клетка Емельяна Пугачева от той клетки, в которую заключили за сотрудничество с фашистским режимом поэта Эзру Паунда? В ту же группу входят законы об ограничении передвижения, распространяемые на индивида или группу.
Все типы инициации связаны с телесными практиками (от первобытного ритуала до современной школы). От рождения до похорон закон «владеет телами» — с тем чтобы превратить их в текст.
…Идентичность человека не сводится к словесным обозначениям. Она подразумевает множественность практик — телесных, поведенческих. Человек проявляет и обозначает свою идентичность не только прямо отвечая на вопрос: «Кто ты такой?», но и действуя: одеваясь, проводя досуг, определенным образом питаясь, обустраивая жилище и выбирая жену... Можно показать, кто ты таков, лишь
показав это, т.е. «предъявив» объективный продукт. В этом главный пункт проблемы идентичности. 1.Сформулируйте основную идею текста.«Культура записана на телах», тело можно читать как манускрипт, как текст. Тело, телесные практики - 2.Как связаны между собой тело и общество?
Приведите ВАШИ примеры этой связи. Как бы вы определили место культуры в этой связи?
3.Почему обществу недостаточно бумаги для записи законов?
III.
Глава из учебника: Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. — М.: "Ключ-С", 1999
ФРАГМЕНТ
Человеческую жизнь в обществе можно представить в контексте взаимодействия практического и экспрессивного порядков.
Практический порядок связан с производством средств жизни, т.е. с обеспечением самой возможности продолжения жизни.
Экспрессивный порядок касается репутации человека, его самоуважения, достоинства. Следует отметить, что для большинства людей в большую часть исторических времен экспрессивный порядок преобладает над практическим или, по меньшей мере, влияет на него. Социальная значимость представления себя самого как существа рационального и заслуживающего уважения огромна.
В племенных обществах, изучаемых полевой антропологией, лишь 8—10% времени посвящено поддержанию жизни. Все оставшееся время тратится на экспрессивные практики. Исследователи отмечают, что сегодня в западных (и не только в западных) обществах роль экспрессивного порядка явно возрастает. Это ощущается по сравнению с XIX – первой половиной XX в., когда роль экономических целей казалась первостепенной2.
«Трудно... объяснить, отчего всякий человек чувствует такую искреннюю радость всегда, когда он замечает признаки благосклонного отношения других и когда что-нибудь польстит его тщеславию. С такой же неизменностью, как мурлычет кошка, если ее погладить, сладкое блаженство отражается на лице у человека, которого хвалят, особенно за то, в чем он считает себя зна- током, хотя бы похвала эта была явной ложью. Знаки чужого одобрения часто утешают его в реальном несчастье или в той скудости, с какой отпущены ему дары из двух рассмотренных выше главных источников нашего счастья; и наоборот, достойно удивления, с какой силой его неизменно оскорбляет и часто делает глубоко несчастным всякий удар по его честолюбию в каком-либо смысле, степени или отношении, всякое неуважение, пренебрежение, невнимание» (Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости / Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. – М., 1992. – С. 294).
Да, историческая жизнь невозможна без производства средств жизни. Но помимо этого она включает представления о чести, достоинстве, уважении. Люди могут умереть не только от голода. Они умирают от унижения, одиночества, стыда. Даже такая вроде бы сугубо практическая вещь, как собственность, пребывает на пересечении экспрессивного и практического порядка. Только через понятие труда как взаимодействия общества и природы собственность объяснить невозможно. Для превращения вещей в собственность необходим символический порядок и символический аппарат. Отсылка к символическому принадлежит к числу антропологических аргументов.
Способность человека к труду не более важна, чем способность к символическим представлениям. Сбегая по вечерам из дому, чтобы выпить в мужской компании, мужчины подчеркивают, что они мужчины. Женщины напоминают о том, что они женщины, занимаясь «болтовней». Болтовня считается собственно женским занятием. В ней немаловажное место занимает обмен повествованиями о том, какие замечательные у женщин дети.
Люди всегда стремятся — с помощью всех доступных средств — выглядеть именно так, а не иначе. Они стремятся этого достигнуть через манеру держать себя, одеваться и говорить, через мнения и суждения, которые они выражают, через способы действия. Они хотят оставить благоприятное впечатление у других. Эти другие — друзья и враги, соседи и соперники, общество в целом.
Изучение отдельного человека, как и социальной системы в целом, в значительной части — исследование символических систем. Через отнесение к символу люди понимают, что именно происходит, а другие могут интерпретировать их действия. Социальная жизнь «засорена символикой» (К. Леви-Строс).
Практический и экспрессивный порядок идут рядом. В качестве примера можно привести шахтерскую забастовку. Забастовка, с одной стороны, преследует практическую цель: повышение заработной платы. С другой — в такого рода действиях присутствует цель экспрессивная: напомнить обществу о значимости этой категории рабочих, о ее чести и достоинстве.
Уважение и осуждение демонстрируются публично и церемониально, по правилам, принятым в данном сообществе. Когда мы гово рим о ком-то, что «ему оказали знаки уважения», то не имеем в виду чувства, которые окружающие действительно испытывают к этому человеку. Знаков уважения требуют социальные роли или соответствующая ситуация. Студент, который встретился с ректором учебного заведения в коридоре, может вовсе не испытывать к нему искреннего чувства уважения. Но почти наверняка он окажет ему знаки уважения.
Течение социальной жизни направляется ритуалами и церемониальными правилами. Эти ритуалы и церемонии просто исполняются. Чувства далеко не всегда пробиваются сквозь всепоглощающую мощь ритуала. Напротив, часто требуется их подавлять, как это происходит в ритуалах похорон.
В ритуалах уважения (а также осуждения, презрения) конституируется социальная связь. Уважение/презрение принимают очень разные формы в различных социальных системах. Столь же богат символический аппарат, посредством которого результаты этих суждений маркируются (обозначаются, отмечаются).
Можно предположить, что отношения уважения или осуждения принадлежат к числу социальных антропологических универсалий. Они встречаются во всех обществах и проявляются в многообразных социальных практиках. Оппозиция уважение/осуждение касается как публичных выражений, так и сугубо личных чувств.
Этот взгляд значим для понимания жизни человека в обществе. Достоинство — сумма средств, с помощью которых человек дает понять, что он уважаем. По отношению к человеку «неуважаемому» проявляется снисходительность, к уважаемому – услужливость. В социальной жизни всегда имеет место напряжение между образом самого себя и репутацией в глазах других.
Знание того, что именно надо делать, не совпадает с сознательным намерением человека. Это знание «неявно» и рождается в процессе социального взаимодействия. Оно накапливается постепенно и передается через традицию, через систему воспитания и образования, через средства коммуникации. Чем человек старше, тем лучше он знает, как реагировать на ту или иную жизненную ситуацию — как держать себя, как одеться, что сказать и с каким выражением лица.
Повторим еще раз высказанную выше мысль. Люди скорее изобрели, нежели унаследовали общество. Изобретение имеет непреднамеренный, незапланированный характер. Живя вместе, люди изобрели систему взаимосвязей для практических и экспрессивных целей. В каких-то отношениях она оказалась аналогичной унаследованным социальным структурам, которые обнаруживаются в сообществах животных. Однако биологические основы жизни — это, скорее, источник проблем, для которых изобретаются социальные решения, а не источник решений проблем, поставленных социальной природой человеческих сообществ.
З. Бауман. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008
Навязчивость, превратившаяся в зависимость
…Прообраз этого конкретного забега, в котором участвует каждый член потребительского общества (в потребительском обществе все является вопросом выбора, за исключением навязчивого желания выбирать, — навязчивости, которая превращается в пристрастие и больше не воспринимается как навязчивость), — покупка товаров. Мы остаемся на дистанции, пока покупаем, и это происходит не только при посещении магазинов, супермаркетов, универмагов. Если под покупкой товаров понимать изучение ассортимента возможностей, рассмотрение, прикосновение, ощупывание, перебирание товаров на полках, сравнение их цен с содержимым бумажника или состоянием счета на кредитных картах, загрузка их в тележки, а других — обратно на полку, то мы покупаем вне магазинов не реже, чем внутри; мы покупаем на улицах и дома, на работе и на досуге, наяву и в мечтах. Что бы мы ни делали и как бы мы ни называли свою деятельность, это деятельность, сформированная по типу покупки товаров. Код, в котором записана наша «жизненная политика», является производным от прагматики совершения покупок, шопинга.
Покупка касается не только пищи, одежды, автомобилей или мебели. Жадный, никогда не завершающийся поиск новых, улучшенных примеров и рецептов жизни также является разновидностью покупки, и, конечно же, наиболее важной разновидностью в свете нашего знания о том, что счастье зависит только от личной компетентности и что в то же время мы лично некомпетентны или не настолько компетентны, как должны и могли бы быть, если бы проявили усердие. Областей, в которых мы должны быть более компетентными, слишком много, и каждая требует «покупок». Мы «покупаем» навыки, нужные чтобы заработать на жизнь, и средства убеждения потенциальных работодателей, доказывающие, что они у нас есть; мы покупаем имидж, который нам приглянулся, и способы заставить других поверить, что мы являемся теми, кем теперь выглядим; мы покупаем способы завести новых нужных друзей и избавиться от старых, нежелательных; мы покупаем способы привлечения внимания и ухода от чужого внимания; мы покупаем средства выжать максимум удовольствия из любви и избежать «зависимости» от любимого или любящего партнера; мы покупаем средства завоевать любовь возлюбленного и наименее дорогой способ завершения союза, когда любовь угасла и отношения перестали радовать; мы покупаем лучшие средства сохранения денег на черный день и наиболее удобный способ потратить деньги до того, как мы заработаем их; мы покупаем способы более быстрого выполнения того, что должно быть выполнено, и заполнения образовавшегося свободного времени; мы покупаем наиболее аппетитную пищу и наиболее эффективную, позволяющую избавиться от последствий ее употребления диету; мы покупаем самые мощные стереоусилители и наиболее эффективные таблетки от головной боли. Список покупок бесконечен. Но каким бы длинным он ни был, способа уклонения от покупок в нем нет. И самая нужная компетентность в нашем мире мнимых бесконечных целей — это компетентность опытного и неутомимого покупателя.
Однако современный консьюиеризм теперь не касается удовлетворения потребностей — даже наиболее возвышенных, объективных потребностей идентификации или уверенности в себе до степени «адекватности». Говорят, что побудителем потребительской активности сейчас является не измеримый набор ясно выраженных потребностей, а желанием — чем-то гораздо более изменчивым и эфемерным, неуловимым и прихотливым, не нуждающимся в другом оправдании или «причине». Несмотря на свои последовательные и недолговечные воплощения, желание имеет в качестве постоянного объекта самое себя, и поэтому оно обречено оставаться ненасытным.
И все же, какими бы ни были его очевидные преимущества над гораздо менее пластичными и изменчивыми потребностями, желание накладывает больше ограничений на потребительскую готовность покупать, чем могло бы в действительности устроить поставщиков потребительских товаров. Все-таки для того, чтобы вызвать желание, довести его до нужной «температуры» и придать ему правильное направление, требуются время, усилия и значительные финансовые затраты. Потребители, направляемые желанием, «производятся» всегда заново, и это дорого. В действительности производство потребителей само поглощает невыносимо большую долю общих затрат на производство, — долю, которую конкуренция склонна увеличивать, а не уменьшать.
…История потребительского общества — это история разрушения и избавления от следующих одно за другим «твердых» препятствий. «Потребность», которая экономистам XIX в. казалась самой сутью «твердости» — негибкой, строго регламентированной и конечной, — была устранена и на время заменена мечтой, которая была гораздо более «текучей» и растяжимой, чем потребность, из-за своих наполовину незаконных связей с переменчивыми и надуманными идеями об аутентичности «внутреннего "я"», ожидающего выражения. Теперь для мечтаний пришла очередь быть отвергнутыми. Они изжили свою полезность: приведя потребительское пристрастие в современное состояние, они больше не могут задавать темп. Требуется гораздо более мощный и универсальный стимулятор, чтобы поддерживать потребительский спрос на одном уровне с предложением. «Желание» — вот этот необходимый заменитель.
Тело потребителя
Постмодернистское общество задействует преимущественно потребительские, а не производительные способности своих членов. Эта особенность очень конструктивна.
Жизнь, организованная вокруг роли производителя, имеет тенденцию быть нормативно регулируемой. Есть определенный минимум потребностей, позволяющий выжить и иметь возможность делать все, чего требует роль производителя, но существует также и верхний предел, о котором человек может мечтать, желать и добиваться, рассчитывая в то же время на социальное одобрение собственных амбиций без боязни быть осужденным и подвергнутым критике. Все, что превосходит данный предел, — это роскошь, а желать роскоши — грех. Поэтому основная забота состоит в поиске соответствия: в поддержании безопасного положения между нижним и верхним пределами — подняться (или опуститься), «как у всех».
Жизнь, организованная вокруг потребления, должна обходиться без норм: она направляется соблазнами, постоянно возникающими и изменчивыми желаниями, а не нормативной регуляцией. Никакие конкретные «все» не являются точкой отсчета для собственной успешной жизни; общество потребителей — это общество всеобщего сравнения. Идея «роскоши» имеет мало смысла, так как смысл заключается в превращении сегодняшней роскоши в завтрашнюю необходимость и сокращении дистанции между «сегодня» и «завтра» до минимума. Так как нет нормы, трансформирующей некоторые желания в потребности и делающей незаконными другие желания как «ложные потребности», нет никакого ориентира, по которому можно было бы оценить стандарт «соответствия». Поэтому главным вопросом является адекватность — состояние «постоянной готовности» или обладания способностью использовать возникающие возможности, развивать новые желания для оценки новых, ранее неизвестных и неожиданных соблазнов «получать» больше, чем ранее, не позволять установленным потребностям сделать новые ощущения избыточными или ограничить возможность понимать и испытывать их.:
Если общество производителей задает в качестве стандарта, которому должны соответствовать его члены, здоровье, общество потребителей выставляет перед своими членами идеал физической подготовленности. Эти два термина — «здоровье», и «физическая подготовленность» — часто считаются смежными и используются как синонимы; все-таки оба они связаны с уходом за телом, с состоянием, которого человек желает достигнуть для своего тела, и режимом, которому обладатель тела должен следовать для исполнения этого желания. Однако рассматривать эти два термина как синонимы было бы ошибкой — и не просто из-за хорошо известного факта, что не .все режимы поддержания физической формы «хороши для здоровья» и то, что помогает оставаться здоровым, обязательно сделает человека физически подготовленным. Здоровье и физическая подготовленность принадлежат двум довольно разным дискурсам и апеллируют к весьма разнящимся интересам.
Здоровье, как и все другие нормативные понятия общества производителей, очерчивает и охраняет границу между «нормальным» и «ненормальным». Здоровье — это правильное и желаемое состояние человеческого тела и духа — состояние, которое (по крайней мере в принципе) может быть более или менее точно описано и после точно оценено. Оно относится к телесному и психическому состоянию, обеспечивающему соответствие требованиям социально разработанной и назначенной роли — и эти требования, в свою очередь, имеют тенденцию оставаться постоянными и непоколебимыми. «Быть здоровым» означает в большинстве случаев быть «трудоспособным»: иметь способность правильно работать на предприятии, быть физически и психически выносливым.
Состояние «физической подготовленности», напротив, никоим образом не является «устойчивым»; оно по природе не может быть разобрано и описано с какой-либо точностью. Хотя его часто принимают за ответ на вопрос: «Как ты себя сегодня чувствуешь?» (если я в порядке, я, вероятно, отвечу: «Прекрасно») — его реальная проверка всегда лежит в будущем: «подготовленность» означает обладание гибким, выносливым и подвижным телом, готовым жить еще не испытанными и непредсказуемыми ощущениями. Если здоровье относится к типу состояния «не больше и не меньше», физическая подготовленность постоянно остается открытой в сторону «больше»: оно относится не к какому-то конкретному стандарту физических способностей, а к их (предпочтительно неограниченному) потенциалу развития. «Физическая подготовленность» означает готовность принимать необычное, неиспытанное, экстраординарное и прежде всего новое и удивляющее. Человек почти всегда может сказать, что, если здоровье касается «соответствия норме», физическая подготовленность относится к способности нарушать нормы и оставлять уже достигнутые стандарты позади.
В отличие от заботы о здоровье стремление к физической подготовленности не имеет естественного итога. В пожизненной погоне за физической подготовленностью нет времени для отдыха и все празднования достижений — это не более чем краткий перерыв перед следующим раундом тяжелой работы. Одну вещь искатели физической подготовленности знают наверняка: они еще не достигли нужной формы и должны продолжать работу. Преследование физической подготовленности — это состояние постоянного самонаблюдения, самоупрека и самоосуждения и потому постоянной тревоги.
Фактически положение всех норм, включая здоровье, под эгидой «текучей» современности, в обществе бесконечных и неопределенных возможностей, пережило серьезную встряску и стало хрупким. Что вчера считалось нормальным и, таким образом, удовлетворительным, сегодня может вызывать беспокойство или даже считаться патологией, требующей лечения. Во-первых, постоянно возникающие новые состояния тела становятся обоснованными причинами медицинского вмешательства и предлагаемые медицинские виды лечения также не стоят на месте. Во-вторых, идея «болезни», некогда ясно очерченная, становится еще более расплывчатой и туманной. Вместо того чтобы воспринимать эту идею как исключительное одноразовое событие, имеющее начало и конец, ее часто рассматривают как постоянное дополнение к здоровью, его «вторую сторону» и всегда присутствующую угрозу: она призывает к постоянной бдительности и требует борьбы днем и ночью, семь дней в неделю. Забота о здоровье превращается в постоянную войну с болезнями. Наконец, значение «здорового образа жизни» не остается постоянным. Понятия «здоровой диеты» изменяются быстрее, чем требуется для последователь иого прохождения курса рекомендованной диеты. Объявляется, что считавшееся здоровым или безопасным питание имеет опасные долговременные эффекты еще до того, как мы успеем полностью насладиться его полезным влиянием. Обнаруживается, что лечение и профилактика, фокусирующиеся на одном типе болезни, в других отношениях патогенны; еще более интенсивные медицинские вмешательства требуются для лечения «ятрогенных» заболеваний — недомоганий, вызванными предыдущим лечением. Почти каждое лечение сопряжено с риском, и для лечения следствий этого риска требуется дополнительное лечение.
иого прохождения курса рекомендованной диеты. Объявляется, что считавшееся здоровым или безопасным питание имеет опасные долговременные эффекты еще до того, как мы успеем полностью насладиться его полезным влиянием. Обнаруживается, что лечение и профилактика, фокусирующиеся на одном типе болезни, в других отношениях патогенны; еще более интенсивные медицинские вмешательства требуются для лечения «ятрогенных» заболеваний — недомоганий, вызванными предыдущим лечением. Почти каждое лечение сопряжено с риском, и для лечения следствий этого риска требуется дополнительное лечение.
В конечном счете забота о здоровье, противоречащая его природе, становится крайне похожей на преследование физической подготовленности: постоянная, никогда не сулящая полного удовлетворения, неопределенная в особенностях текущего направления и порождающая на своем пути много треволнений.
Покупка как ритуал экзорцизма
….стремление к покупкам, превратившееся в пристрастие, — это трудная борьба против острой нервирующей неопределенности и надоедающего, изматывающего чувства отсутствия безопасности.
Как в другом случае замечает Т. Э. Маршалл, когда многие люди одновременно бегут в одном направлении, нужно задать два вопроса: «Зачем они бегут?», «И от чего они убегают?» Потребители могут гнаться за приятными — тактильными, зрительными или обонятельными — ощущениям или за восхитительными вкусами, сулимыми яркими и сверкающими объектами, выставленными на полках супермаркетов или магазинов, или за более глубокими, еще более комфортными ощущениями, обещаемыми сеансами консультаций. Но они также пытаются найти выход из состояния агонии, которая называется отсутствием безопасности. Они хотят когда-нибудь освободиться от страхов ошибки, Нерадивости Или небрежности. Они надеются получить уверенность, надежность и доверие; и поразительные достоинства приобретаемых ими объектов состоят в том, что последние (или так кажется некоторое время) обещают определенность.
Чем бы ни были компульсивные покупки, они также являются дневным ритуалом изгнания ужасных призраков неопределенности и отсутствия безопасности, которые продолжают преследовать людей по ночам. В действительности это ежедневный ритуал: экзорцизм должен повторяться ежедневно, так как едва ли товары на полках супермаркета могут лежать без ярлыка «Употребить до» и, кроме того, тип определенности, Доступный для акта продажи в магазинах, мало делает для устранения опасности, которая прежде всего и побуждает покупателя посещать магазин.
Свободен покупать или так кажется
Люди нашего времени, замечает Альбер Камю, страдают от невозможности достаточно полно обладать миром: «За исключением ярких моментов свершения вся реальность для них неполна. Их действия ускользают от них в форме других действий, возвращают в неожиданной личине, чтобы судить их, и исчезают в некоем загадочном отверстии, как вода, которую хотел выпить Тантал».
Это то, что каждый из нас знает благодаря интроспективным догадкам: это то, что наша биография ретроспективно говорит нам о мире, где мы живем. Однако это выглядит иначе, когда мы оглядываемся вокруг на окружающих, которых мы знаем, и особенно на далеких от нас людей: «на расстоянии их существование видится слаженным и единым, чего не может быть на самом деле, но что кажется очевидным Наблюдателю». Конечно, это обман зрения. Расстояние (то есть недостаточность наших знаний) размывает подробности и удаляет все, что плохо соответствует данному гештальту. Будь то иллюзия или нет, но мы склонны видеть жизнь других людей как произведение искусства. И начинаем стремиться к тому же: «Каждый пытается сделать свою жизнь произведением искусства» .
Это произведение искусства, создаваемое нами из хрупкого материала жизни, называется идентичностью. Когда бы мы ни говорили об идентичности, в нашем сознании возникают тусклые образы гармонии, логики, согласованности: всех тех вещей, которые, к нашему вечному отчаянию, явно и отвратительно отсутствуют в потоке нашего опыта. Поиск идентичности — это постоянные попытки остановить или замедлить этот поток, сделать твердым жидкое, придать форму бесформенному. Мы стараемся отрицать или по меньшей мере скрыть удивительную изменчивость под тонкой оболочкой формы; мы пытаемся отвести взгляд от образов, которые он не может пронзить или воспринять. Все еще далекие от замедления потока, не говоря уже об его остановке, идентичности больше похожи на корку, то и дело застывающую на поверхности вулканической лавы, — она плавится и снова разрушается до того, как успеет остыть и затвердеть. Отсюда необходимость снова и снова повторять попытки, и эти попытки могут выполняться только путем отчаянного удержания вещей твердыми и материальными и, таким образом, сулящими длительное существование независимо от того, подходят ли они друг другу, гармонируют ли они, дают ли они основания ожидать, что останутся вместе, будучи однажды соединенными. Как говорят Делез и Гуаттари, «желание постоянно соединяет неразрывное течение и частичные объекты, которые по природе фрагментарны и фрагментированы» .
Идентичность кажется фиксированной и твердой лишь при беглом осмотре извне. Какой бы твердостью она ни обладала, при рассмотрении изнутри, с точки зрения собственного биографического опыта, она кажется хрупкой, уязвимой и постоянно раздираемой внутренними силами, раскрывающими ее текучесть, и внешними течениями, угрожающими разорвать на куски и унести любую воспринятую форму.
…Учитывая изменчивость и непостоянство всех или большинства форм идентичности, именно способность «делать покупки» в супермаркете идентичностей, степень истинной или предполагаемой потребительской свободы выбирать свою идентичность и удерживать ее сколь угодно долго становится самым легким путем к исполнению фантазий об идентичности. Имея эту способность, человек свободен создавать и отменять идентичность по своей воле. Или ему так кажется.
В потребительском обществе всеобщая потребительская зависимость — универсальная зависимость от покупок — это обязательное условие всей индивидуальной свободы; главным образом свободы отличаться, «иметь идентичность^. Во вспышке внезапной искренности (и одновременно подмигивая искушенным клиентам, знающим правила игры) реклама на телевидении показывает толпу женщин с разными прическами и разным цветом волос, в то время как титры комментируют: «Все уникальны, все индивидуальны, все выбирают "X"» («X» — рекламируемая марка кондиционера для волос). Массово производимые средства — инструмент индивидуального разнообразия. Идентичность — «уникальная» и «индивидуальная» — может быть выявлена лишь на веществе, которое все покупают и могут получить только посредством покупки. Вы получаете независимость, сдаваясь. Когда в фильме «Елизавета» королева Англии решает «изменить свою личность», стать «дочерью своего отца» и заставить придворных подчиняться ее командам, она делает это, изменяя прическу, покрывая лицо толстым слоем грима и надевая на голову украшения.
Степень, в которой свобода, основанная на потребительском выборе, особенно свобода самоидентификации потребителя путем использования массово производимых и продаваемых товаров, истинна или мнима, всегда спорный вопрос. Такая свобода не может существовать без поставляемых рынком товаров и веществ. Но насколько, учитывая это, широка фантазия и свобода экспериментирования счастливых покупателей?
Их зависимость, конечно, не ограничивается актом покупки. Вспомните, например, об огромной власти, которую СМИ имеет над вооб-; ражением людей — коллективным и индивидуальным. Влиятельные, «более реальные, чем сама реальность», образы на вездесущих экранах задают стандарты действительности и ее оценки, а также стремление сделать «живую» реальность более приятной. Желаемая жизнь стремится быть жизнью, которую люди видят по телевизору. Жизнь на экране принижает и лишает очарования реальную жизнь: именно реальная жизнь кажется нереальной и будет продолжать видеться и ощущаться нереальной, пока она не превращена, в свою очередь, в образы на экранах телевизоров. (Чтобы достичь полноты реальности собственной жизни, человек должен сначала «записать» ее, используя для этой цели, конечно, видеоленту — этот легко стираемый материал, всегда готовый к удалению старой записи и сохранению новой.) Как сказал Кристофер Лэш, «современная жизнь настолько полно поглощена электронными образами, что мы не можем реагировать на других иначе, как если бы их действия — и наши собственные — записывались и одновременно передавались невидимой аудитории или сохранялись для тщательного изучения в последствии».
В более поздней книге Лэш напоминает своим читателям, что «старое значение идентичности относится и к людям, и к неодушевленным предметам. Оба утратили в современном обществе свою твердость, определенность и целостность». Лэш имеет в виду, что в этой универсальной «плавке всех твердых тел» инициатива принадлежит вещам и, так как вещи являются символическими обозначениями идентичности и средствами идентификации, люди вскоре начинают действовать соответствующим образом. Ссылаясь на знаменитое исследование автомобильной промышленности, проведенное Эммой Ротшильд, Лэш утверждает:
Маркетинговые инновации Альфреда Слоуна — ежегодное изменение модели, постоянное усовершенствование продукции, усилия, направленные на ее связь с социальным статусом, намеренное потворство безграничному аппетиту к изменениям — составляли необходимое дополнение обновлению производства, сделанному Генри Фордом... Оба стремились ослабить инициативу и независимое мышление и заставить человека не доверять собственным суждениям даже в вопросах вкуса. Его собственные простодушные предпочтения, по-видимому, могли отставать от текущей моды, их также нужно было периодически обновлять.
Альфред Слоун был пионером того, что позднее стало универсальной тенденцией. Товарное производство в целом сегодня заменяет «мир прочных объектов» «одноразовыми товарами, разработанными для немедленного устаревания». Следствия этой замены проницательно описал Джереми Сибрук:
Не столько капитализм предоставляет товары людям, сколько люди все больше предоставляются товарам; то есть сам характер и восприимчивость людей были переработаны и изменены таким образом, чтобы они приблизительно согласовались... с товарами, переживаниями и ощущениями... продажа которых собственно и придает форму и значимость их жизни .
В мире, где намеренно нестабильные предметы являются сырым строительным материалом идентичности людей, которая по определению нестабильна, человек должен постоянно быть внимательным; но прежде всего он должен охранять свою гибкость и скорость реадаптации для быстрого следования изменяющимся паттернам «внешнего» мира. Как недавно заметил Томас Матиесен, мощная метафора Паноптикума Бентама и Фуко больше не характеризует работу власти. Как утверждает Матиесен, мы переместились теперь от общества в стиле Паноптикума к обществу в стиле Синоптикума: действующие лица поменялись местами, и теперь многие наблюдают за немногими. Зрелища пришли на место надзора, не утратив дисциплинирующей власти своего предшественника. Подчинение стандартам (позвольте добавить, пластичное и изящно адаптируемое подчинение исключительно гибким стандартам) теперь достигается посредством соблазна и искушения, а не принуждения, — и проявляется в личине осуществления свободной воли, а не обнаруживается в форме внешней силы.
Эти истины нужно утверждать снова и снова, так как труп «романтического понятия "я"», предполагающего наличие внутренней сущности, скрытой под всеми внешними поверхностными образами, сегодня имеет тенденцию искусственно реанимироваться совместными усилиями того, что Пол Аткинсон и Дэвид Сильверман удачно окрестили «обществом интервью» («опирающегося на многочисленные интервью в надежде обнаружить личное, частное "я" субъекта») и большей части современных социальных исследований, (направленых на «рассмотрение субъективной истины "я"» путем провоцирования и анализа личных повествований в надежде найти в них раскрытие внутренней истины). Аткинсон и Сильверман протестуют против этой практики:
Мы не обнаруживаем свое «я» в социальных науках путем собирания рассказов, мы создаем индивидуальность посредством изложения биографии...Желание откровений и раскрытие желаний создают видимость аутентичности, даже когда сама возможность аутентичности находится под вопросом.
Рассматриваемая возможность действительно очень сомнительна. Многие исследования показывают, что личные рассказы — это просто повторения публичных дискуссий, устроенных общественными СМИ для «представления субъективных истин». Но отсутствие аутентичности якобы аутентичного «Я» тщательно скрыто демонстрациями искренности — общественными ритуалами подробных интервью и публичных исповедей, что особенно явственно проступает в ток-шоу, хотя они никоим образом не являются единственным примером. Видимо, эти шоу должны давать выход побуждениям «внутренних "я"», стремящихся вырваться наружу; фактически они являются средствами выражения характерной для потребительского общества версии воспитания чувств: представляют рассказы об эмоциональных состояниях и ставят на них печать общественной приемлемости, а уже из этих рассказов должны быть сотканы «сугубо личные идентичности».
В таком мире забота об идентичности имеет тенденцию выражаться совершенно иначе:
«эпоха иронии» прошла, чтобы быть замеченной «эпохой очарования», в которой видимость возведена в ранг единственной реальности.
Таким образом, современность перешла через период «аутентичной» индивидуальности в период «ироничной» индивидуальности и далее в современную культуру, которую можно назвать «ассоциативной индивидуальностью» — постоянной утратой связи между внутренней душой и внешней формой социальных отношений... Таким образом, идентичность подвержена непрерывным колебаниям...» .
Так выглядит современность под микроскопом культурного аналитика. Картина общественно генерируемого отсутствия аутентичности может быть и верна; аргументы, подтверждающие ее истинность, в самом деле, поражают. Но не истина определяет влияние «шоу искренности». Важно, как ощущается надуманная потребность строить и перестраивать идентичности, как она воспринимается «изнутри», как она «проживается». Истинный или мнимый в глазах аналитика, свободный «ассоциативный» статус идентичности, возможность «покупать», принимать и избавляться от своего истинного «я», «быть в движении» стали в современном потребительском обществе признаками свободы. Потребительский выбор теперь стал ценностью сам по себе; процесс выбора значит больше, чем то, что выбирается, и ситуации превозносятся или осуждаются, вызывают удовольствие или неприязнь в зависимости от имеющегося диапазона выбора.
Жизнь выбирающего человека всегда имеет как положительные, так и отрицательные стороны, даже если (или скорее поскольку) диапазон выбора широк и объем возможных новых переживаний кажется бесконечным. Такая жизнь наполнена риском: неопределённость навсегда обречена оставаться ложкой дегтя в бочке меда свободного выбора. Кроме того (и это важное дополнение), равновесие между радостью и отчаянием одержимого покупками человека зависит от иных факторов, чем просто диапазон имеющихся вариантов выбора. Не все варианты реалистичны, и доля реалистичных среди них является функцией не числа вариантов, а объема ресурсов, имеющихся в распоряжении выбирающего человека.
Когда ресурсов много, человек всегда может надеяться, обоснованно или нет, остаться «на вершине положения» или «переместиться вперед», иметь возможность приблизиться к быстро движущимся мишеням; кроме того, человек склонен к приуменьшению степени риска и опасности и предполагает, что богатство выбора многократно
компенсирует дискомфорт жизни в темноте или вечной неуверенности в том, когда и где закончится борьба и имеет ли она вообще конец. Именно бег сам по себе возбуждает, и каким бы утомительным он ни был, беговая дорожка — это более радостное место, чем финишная черта. К этой ситуации подходит старая пословица: «Лучше путешествовать с надеждой, чем прибывать к месту назначения». Прибытие, ясный конец всего выбора кажутся гораздо более скучными и значительно более пугающими, чем перспектива того, что завтрашние варианты выбора отменят сегодняшние. Приветствуется лишь желание, и едва ли — его удовлетворение.
Можно было бы ожидать, что энтузиазм к бегу ослабнет вместе с силой мышц и что любовь к риску и приключениям будет угасать по мере того, как сокращаются ресурсы и все более неопределенным становится шанс выбрать истинно желаемый вариант. Однако такое ожидание обречено быть несостоятельным, поскольку бегунов так много, и они такие разные, а дорожка — одна для всех. Как указывает Иеремия Сибрук,
бедные не живут в иной культуре, чем богатые. Они должны жить в том же мире, который обеспечивает выгоду тем, у кого есть деньги. И их бедность усугубляется экономическим ростом, так же как усиливается спадом и отсутствием роста .
В синоптическом обществе пристрастия к покупкам/зрелищам бедные не могут отвести глаза; им больше некуда смотреть. Чем более высока степень свободы на экране и чем более соблазнительны искушения прилавков магазина, тем глубже ощущение убогости реальности, тем более неодолимым становится желание испытать хотя бы на мгновение счастье свободы выбора. Чем больший выбор, как кажется, имеют богатые, тем ненавистнее для всех жизнь без выбора.
1.О какой навязчивости и зависимости говорит автор? Какое отношение имеют к этому потребности и желания? В чем их разница?
2.В чем отличие жизни человек в обществе потребления от индустриального? Примеры автора и свои.
3.Почему покупка есть ритуал экзорцизма?
4. Современный человек свободен покупать? Или так кажется? Аргументируйте позицию автора. И Вашу.
5. Что происходит с идентичностью в современном обществе? Роль рекламы и СМИ. Как Вы понимаете выражение «супермаркет идентичности»?
6. Как изменилась работа власти?
7. Что имеет ввиду автор, утверждая, что «беговая дорожка более радостное место, чем финишная прямая»? Вы согласны с этим утверждением?
V.
Гитлер на фейс-контроле. Андрей Лошак · 25/09/2009
Навоз и цветы В этом году исполнилось 15 лет российскому изданию журнала Cosmopolitan. Тираж — 1 100 000 экземпляров. На самом деле намного больше — журнал передают из рук в руки, зачитывая до дыр. Наш Cosmo — самый читаемый женский журнал в Европе. Его влияние беспрецедентно. И это печально.
В конце XIX века это был блистательный журнал, в котором печатались лучшие литературные тексты эпохи — Амброз Бирс, Бернард Шоу, Синклер Льюис. Левацкие журналисты, вроде Чарльза Рассела, публиковали в Cosmopolitan свои расследования, вскрывающие гнойники капиталистической системы. Начиная с 20-х годов это вполне интеллектуальное издание без ярко выраженных половых признаков начало дрейфовать в сторону журнала для домохозяек. История его постепенной деградации очень показательна. В начале бунтарских 60-х тиражи стали падать, и место главного редактора заняла Хелен Герли Браун, автор бестселлера «Секс для незамужних девушек». До прихода в журнал Браун являлась одним из самых высокооплачиваемых копирайтеров в американском рекламном бизнесе.
Это была сорокалетняя особа, помешанная на диетах и моде, и при ней на обложках навсегда поселились худые красавицы в топиках или бикини. Браун объединила две вроде бы противоположные общественные тенденции: растущий консюмеризм и стремление к индивидуальности. Первому были посвящены бесчисленные рубрики про туфли и лифчики, второе было подменено сексуальным раскрепощением. С тех пор в левом верхнем углу обложки обязательно печатаются крупными буквами слова «секс» или «оргазм».
Выглядело это вполне по-феминистски, но уже к 70-м годам, когда раскрепощать было больше некого, секс из цели превратился в традиционное средство завоевания мужчин. С развитием культа знаменитостей журнал заполонили материалы о звездах и успешных людях. Таким он и пришел в Россию в 1994 году с лозунгом: «Космо — это успех!» Магический глянцевый параллелограмм, открыв который девушка проваливалась в сказочный мир чувственности, шопинга и звездных принцев. И можно было ненадолго забыть о вонючей толпе в электричке, похотливом начальнике и папаше-алкоголике. Поначалу Cosmo не был «подругой» или «советчиком», скорее прекрасной сказкой, продолжением девичьих грез, вроде игры в куклу Барби, которая в этом году также отметила свой юбилей, разменяв полтинник.
Девушки из электричек ни в коей мере не стремились занять место моделей с обложек — слишком велик был онтологический разрыв между ними. Тут другое: соприкасаясь с миром глянцевых красавиц, девушки обретали смысл жизни. Раз все то, о чем пишет Cosmo, реально, значит, и убогость повседневности имеет право на существование. Ведь должен кто-то унаваживать землю, чтобы на ней произрастали прекрасные цветы. И современные золушки засыпали в обнимку с Cosmo если не счастливые, то по крайней мере примирившиеся со своим предназначением.
Навьи чары Примерно тот же терапевтический эффект оказывала на маленьких девочек кукла Барби. Ее фантастические пропорции и шикарные аксессуары не оставляли никаких надежд на то, что игра когда-нибудь станет реальностью. Ребенка с детства приучали к мысли, что где-то есть иной, блестящий мир, и этот мир — не для него. Трудно найти что-то более противоположное действительности, чем один из девизов Барби: «Surf, sun & fun». Неслучайно, повзрослев, почти все девочки проходили стадию агрессии против куклы, отрезая ей волосы, уродуя лицо и тело. Но тут подоспевал глянец, и подросток проваливался в новую галлюцинацию. Все-таки не зря слово «гламур» переводится как «чары». Именно так — магически — воздействует современный капитализм на неокрепшие девичьи мозги.
Вообще, даже удивительно, насколько кукла Барби и журнал Cosmopolitan — вещи одного порядка, транслирующие одни и те же ценности консюмеризма. Cosmo — это Барби для совершеннолетних. Но с ростом потребительских отношений журнал перестал быть только психотерапевтическим средством, помогавшим девушке смиренно нести свою дхарму.
У нас появились свои Холли Голайтли и Бекки Шарп, желающие потеснить красоток с обложки. С азартом неофитов они включаются в конкурентную борьбу. Индустрия от этого только выигрывает. Экономист Веблен называл это действием убывающей предельной полезности — чем ниже ваш социальный статус, тем больше вы готовы платить, чтобы его повысить. Карикатурным олицетворением этих процессов является девушка по имени Карина Барби. Ей двадцать лет, в Москву приехала из Караганды. Она ходит в розовом и танцует в стриптиз-клубе. На вопросы отвечает исключительно цитатами из своего любимого журнала Cosmopolitan, который называет «библией гламура» — все это с очевидным провинциальным говором: «Главное — это успех… Женщина всегда должна улыбаться… Я — гламурная стерва… Худоба — не цель, а средство…». Но есть вполне зрелые и образованные люди, которым ценности глянцевых журналов серьезно засорили мозги. Например, светский обозреватель Божена Рынска, которая рассказывает в автобиографической книге о том, как собиралась ложиться в клинику, чтобы вытянуть свои недостаточно длинные ноги с помощью аппарата Илизарова. К счастью, знающие люди отговорили, сказав, что это бесполезно. В этом-то вся проблема. Моделью не становятся, моделью рождаются. Сколько ни следуй советам журнала Cosmopolitan, но если ты ниже и толще навязанных им же стандартов, ты так и останешься за порогом этого праздника жизни.
Клубная евгеника Возьмите фейс-контроль любого московского клуба, где собираются толстосумы. Маленькая, полная женщина за тридцать туда никогда не пройдет. Фейс-контроль — это столь любимая Гитлером евгеника в действии.
На самом деле кукла Барби и глянцевые женские журналы по своей сути глубоко сексистские. Известно, что главный дизайнер Барби Джек Райан был одержим худыми высокими девушками, устраивая в своем калифорнийском замке конкурсы красоты, плавно переходившие в оргии (сам он при этом был карикатурным коротышкой). Вообще, все эти якобы девичьи штучки на самом деле призваны обслуживать исключительно мужскую модель общества, в котором все женщины стоят в очереди на фейс-контроль. В клуб попадают только избранные. Мужчинами, разумеется. Компания «Маттел», выпускающая Барби, в кого только ее не рядила. Кукла была космонавтом, кандидатом в президенты, стюардессой, но больше всего, мне думается, ей пошла бы нацистская форма. Потому что гламур — это фашизм красоты.
Впервые я встретил эти слова рядом в рецензии Сьюзан Зонтаг на фотоальбом Лени Рифеншталь «Нубийцы». На снимках изображена силовая борьба физически совершенных мужчин из дикого африканского племени. Зонтаг комментирует: «Воспевая общество, где главной ценностью является демонстрация телесной красоты и победа сильного над слабым, Рифеншталь, кажется, недалеко уходит от идей, представленных в ее нацистских фильмах». Ссылаясь на слова Рифеншталь о том, что она всегда была заворожена красотой и силой, Зонтаг подытоживает: «В основе фашистского искусства — утопическая эстетика физического совершенства. Живописцы и скульпторы нацистской эпохи часто изображали обнаженную натуру, но им запрещалось показывать какие-либо недостатки или уродства. Их ню выглядят как картинки в модных журналах — ханжески асексуальные и в то же время порнографические, поскольку их совершенство — не более чем пропаганда».
А теперь представим, что Зонтаг говорит эти слова не о Лени Рифеншталь, а о журнале Cosmopolitan. Или о кукле Барби. Удивительное соответствие, не правда ли? Фашизм всегда фетишизирует красоту и силу. По этой причине в газовые камеры вместе с евреями как «биологически вредный материал» отправлялись инвалиды и умственно неполноценные немцы. К сожалению, некоторые популярные в то время идеи, обрядившись в глянец, по-прежнему демонстрируют живучесть.
California über alles Фашизм красоты пронизывает современное общество гораздо глубже, чем могло бы показаться. Снимая репортаж, посвященный юбилею куклы, я побывал в Калифорнии, откуда Барби родом. В клинике для больных анорексией, расположенной в роскошном Малибу, один день пребывания стоит 1500 долларов. Девушки из небедных, надо думать, семей поступают сюда пачками. Они все говорят о синдроме Барби — так здесь называют невроз, вызванный навязанными обществу стандартами красоты. В клинике нет телевизора и глянцевых журналов — девушки не должны видеть травмирующих их изображений худых красоток. Как тут не вспомнить слова Хелен Герли Браун, уже упоминавшегося главреда Cosmopolitan: «Чтобы ваш вес был идеальным, нужно быть чуть-чуть анорексичкой». Госпожа Браун таковой и являлась. В парикмахерской на Беверли-Хиллз я интервьюировал стилиста Стивена Эрхарда — он сделал 43 пластические операции, чтобы быть похожим на Кена, пластмассового друга Барби. «Вы в Голливуде, — говорит он, — здесь все делают пластические операции по нескольку раз в год. Мы тут приговорены к тому, чтобы выглядеть хорошо». Кстати, когда Хелен Герли Браун исполнилось 73 года, она вставила себе имплантаты груди.
Калифорния — удивительное место. Поистине Третий рейх фашистов от красоты. Пластических хирургов здесь в десять раз больше, чем в среднем по стране. Символично, что губернатором штата стал культурист — человек, превративший физическую красоту в свой главный капитал. А если вспомнить о его австрийских корнях, становится даже немного не по себе. Именно в Калифорнии куются мифы, которые поглощает потом все человечество.
Единственным движением, противостоявшим гламурной евгенике, был феминизм. В современной России он умер, не успев родиться. Печально, что и на Западе, добившись равноправия во многих вопросах, феминистки все-таки проиграли свою главную битву с фашизмом красоты. В современном обществе медийной персоне готовы простить все: подлость, коррупцию, предательство. Нельзя только одно: плохо выглядеть.
Отдельные антифашистские очаги сопротивления случаются. История Сьюзан Бойл, например. Или более скромный по масштабам флэшмоб в рунете по выдвижению маленькой и пухлой Алены Пискловой в победительницы конкурса «Мисс Вселенная». С фашизмом красоты будет покончено, когда ребенку с детства перестанет вдалбливаться мысль о физическом превосходстве длинноногих блондинок, а фотография Сьюзан Бойл украсит обложку Cosmopolitan. Однако этого не будет никогда по одной простой причине. Рекламодатели не позволят.
Как этот «журналистский» текст связан с предыдущими теоретическими текстами?
Вопросы к экзамену/зачету по курсу лекций «Культурология»
Литература:
1.Курс лекций, прочитанный в сентябре-ноябре 2010 г.
2. Фрагменты текстов, представленные выше. 3.Костина А.В. Культурология. М.: КНОРУС, 2008. темы 11,12, 13, 14
Вопросы для подготовки к зачету/экзамену
по дисциплине «Культурология» (для тех, кто не слушал лекции)
Литература:
ansya.ru
Зигмунт Бауман
МЫСЛИТЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ
Перевод с английского под редакцией канд. философ. наук А. Ф. Филиппова
Учебная литература по гуманитарным и социальным дисциплинам для высшей школы России готовится и издается при содействии Института «Открытое общество» в рамках программы «Высшее образование».
Редакционный совет:
В. И. Бахмин, Я. М. Бергер, Е. Ю. Гениева, Г. Г. Дилигенский, В. Д. Шадриков
Перевод с английского:
С. П. Баньковской, А. Ф. Филиппова
К русскому читателю
У социологии славная история. Немногие другие дисциплины могут гордиться такой историей. И далеко не везде эта история славнее польской и российской истории социологии. В темную годину социология всегда была желанным лучом света…
Действительность, которую иные представляют как ниспосланную нам с небес или предписанную сверхчеловеческим разумом истории, социология видела как на самом деле временное, неоконченное творение вполне земных сил — человеческого ума и рук, иногда искусных, иногда не очень, а иногда и вовсе ни на что не способных. Как и сами люди, эта действительность не свободна от ошибок и отнюдь не безгрешна, но прелесть ее заключается в том, что именно люди, подумав да поднапрягшись, могут переделать ее, заменив чем-то лучшим или хотя бы более сносным.
В годы подавляющего единомыслия, когда слаженный газетный хор заглушал любой самостоятельный голос, социология стала своеобразным убежищем для общественного мнения — этого рассадника инакомыслия. Для официальных же блюстителей порядка она казалась властью власть неимущих, даже если кто-то из социологов и клялся им в своем верноподданничестве.
Во мраке и спичка ярко светит. В тот период полезность социологических исследований была, так сказать, гарантирована заранее, слава этой науке давалась легко, хотя и не всегда потому, что она априори обладает огромным гуманистическим потенциалом. Услуги социологии представлялись чем-то само собой разумеющимся в ситуации, когда, как говорят, все перекрестки ярко освещены. А вот об истинной пользе, которую могут принести людям, блуждающим в потемках, социологи (и только они), ослепленные множеством прожекторов, в те времена узнать так и не пришлось.
В России, как и в Польше, наступили новые времена, и другие проблемы стоят сегодня перед людьми. Не всегда они легче прежних, но всегда новые, требующие нового осмысления и новых навыков их решения. Свобода самоопределения дается нелегко и не всегда оказывается приятнее принуждения, но страдания свободных людей — это нечто совсем иное, нежели терпение рабов или крепостных. Может ли социология помочь в свободной жизни? Я убежден, что может. Кстати, эта книга и написана с той целью, чтобы показать: социологическое мышление способно стать силой свободного человека, о чем мы прежде даже не подозревали.
Если читатель найдет в книге отголоски собственных размышлений, терзаний, поисков, не вполне осознанных переживаний, встретит те же настойчиво повторяемые вопросы, то я могу считать, что задача, которую я ставил перед собой, выполнена. И себе, и вам, дорогие читатели, я искренне желаю, чтобы так оно и случилось.
Зигмунт Бауман, 14 сентября 1996 г.
Введение. Зачем нужна социология?
По-разному можно представлять себе социологию. Самый простой способ — вообразить длинный ряд библиотечных полок, до отказа забитых книгами. В названии либо в подзаголовке, или хотя бы в оглавлении всех книг встречается слово «социология» (именно поэтому библиотекарь поместил их в один ряд). На книгах — имена авторов, которые называют себя социологами, т. е. являются социологами по своей официальной должности как преподаватели или исследователи. Воображая себе эти книги и их авторов, можно представить определенную совокупность знаний, накопленных за долгие годы исследований и преподавания социологии. Таким образом, можно думать о социологии как о связующей традиции — определенной совокупности информации, которую каждый новообращенный в эту науку должен вобрать в себя, переварить и усвоить независимо от того, хочет он стать социологом-практиком или просто желает познакомиться с тем, что предлагает социология. А еще лучше можно представить себе социологию как нескончаемое число новообращенных — полки все время пополняются новыми книгами. Тогда социология — это непрерывная активность: пытливый интерес, постоянная проверка полученных знаний в новом опыте, непрекращающееся пополнение накопленного знания и его видоизменение в этом процессе.
www.rulit.me
Даже если новички хранят молчание, что называется, держат язык за зубами и почтительно воздерживаются от нелепых вопросов, то и тогда сам стиль их повседневной жизни не может не поставить те же вопросыи с тем же обескураживающим результатом. Те, кто пришел оттуда сюда и решил остаться, захотят усвоить наш стиль жизни, подражать ему, стать «как мы». Если не все, то большинство из них постараются обустроить свои жилища так, как мы, станут одеваться, как мы, будут копировать наш стиль работы и досуга. Они будут не только говорить на нашем языке, но и отчаянно копировать нашу манеру речи и обращения друг к ..другу. Но как бы они ни старались (или как раз из-за чрезмерного усердия), они не смогут избежать ошибок, по крайней мере в начале. Их усилия неубедительны. Их поведение выглядит неуклюжим, нелепым и смешным; оно скорее подобно карикатуре на наше собственное поведение и потому заставляет нас задаваться вопросом: что, собственно, оно представляет собой в действительности. В их поведении чувствуется что-то ироничное. Мы стараемся откреститься от такого неумелого подражания, высмеивая их, издеваясь над ними, рассказываем про них анекдоты — «карикатуры на карикатуру». Однако к этому смеху примешивается горечь, под маской веселости скрывается обеспокоенность. И как бы мы ни старались ограничить это зло, ущерб — налицо. Наши, обычно не осознаваемые нами, обычаи и привычки показаны нам в кривом зеркале. Мы были вынуждены посмотреть на них с иронией, отстраниться от своей собственной жизни. И уже не требуется никаких дополнительных вопросов — наш комфорт нарушен.
66
Как видим, есть достаточно причин, чтобы относиться к чужакам с подозрением, как к потенциально опасным. Они были бы относительно безобидными для нас, если бы вполне четко отличали себя от нас и оставались бы посторонними, согласившись с тем, что наша жизнь — для нас, а их жизнь — это их жизнь, и «вместе нам не сойтись»; если бы, другими словами, мы могли не обращать на них внимания, даже когда они появляются в поле нашего зрения. Но беспокойство катастрофически нарастает по мере того, как различия перестают быть такими чёткими, как раньше, и теряют всё больше ясность. То, что вначале, возможно, рассматривалось как объект для шуток и насмешек, теперь возбуждает враждебность и даже агрессивность.
Первая реакция — восстановить утраченную ясность различий, отправив чужаков обратно — туда, «откуда они явились» (т.е. если существует такая естественная обитель, которую они когда-то покинули; это относится прежде всего к этническим иммигрантам, приехавшим в надежде поселиться в новой стране). Порой предпринимаются попытки заставить их эмигрировать или сделать их существование настолько жалким, чтобы они сами предпочли исход как меньшее из зол. Но если эти попытки наталкиваются на сопротивление или массовое выселение не представляется по той или иной причине возможным, то может последовать геноцид; жестокая физическая расправа имеет целью сделать то, что не удалось сделать путем физического перемещения. Геноцид —- самый крайний и_отвратительный метод восстановления порядка, и все же недавняя история показывает с ужасающей очевидностью, что угроза геноцида не надуманна, что нельзя исключить его новые рецидивы, несмотря на его всеобщее осуждение и неприятие.
Как правило, избираются все же менее одиозные и радикальные решения рассматриваемой проблемы. Чаще всего используется разделение. Разделение может быть территориальным, духов-ным, тем и другим одновременно. Территориальное разделение нашло свое наиболее яркое воплощение в гетто и этнических резервациях, т.е. районах в городе или областях в стране, отве-денны для заселения людьми, с которыми коренное население не желает смешиваться, рассматривая их как чуждый элемент и желая навсегда сохранить за ними этот статус. Было время, когда такое отведенное для чужаков место огораживалось стенами и более мощными перегородками в виде всевозможных запретительных законов (необходимость иметь специальный пропуск для того, чтобы выйти за пределы «обитания черных», или запрет на при-
67
обретение недвижимости в районах, предназначенных для белых, — вот лишь два недавних,но тем не менее, беспрецедентных примера из южноафриканского опыта, и чужакам запрещалось покидать пределы своей территории. Иногда перемещение внутри и вне пространства резервации по закону ненаказуемо и dejureсвободно, но на практике жители резервации не могут или не хотят покидать свое заточение либо потому, что за его пределами созданы невыносимые для них условия (их оскорбляют физически, над ними смеются и издеваются), либо потому, что тот жалкий уровень жизни, который им доступен в их допотопных кварталах, — единственное, что они могут себе позволить. Если же внешним обликом и манерами чужаки мало чем отличаются от коренных жителей, то им предписывается носить особое одеяние или какие-то другие бесчестящие их знаки, чтобы сделать различие видимым и исключить опасность случайной путаницы. Вместе с такими знаками, которые должны носить чужаки, они тем самым как бы носят с собой свое пространство обитания, куда бы ни пошли, если им разрешено перемешаться. А перемещаться им вынуждены были позволить, поскольку они зачастую выполняли пусть низкую и презираемую, но все же жизненно необходимую для коренного населения работу (как, например, евреи в средневековой Европе, предоставлявшие большую часть банковских кредитов и наличных займов).
В тех случаях, когда территориальное разделение оказывается неполным или в целом неосуществимым, возрастает значение духовного разделения. Взаимоотношения с чужаками ограничиваются рамками строго деловых связей; социальные контакты исключаются из желания предотвратить перерастание неизбежного физического сближения в духовное. Среди таких превентивных (предохранительных) мер самыми очевидными являются недоброжелательность или открытая враждебность. Барьер, воздвигаемый из предрассудков и злобы, зачастую оказывается гораздо более эффективным, чем самые толстые каменные стены. Стремление предотвратить всякие контакты с чужаками постоянно подогреваются страхом подхватить какую-нибудь заразу в буквальном или переносном смысле: считается, что чужаки кишат паразитами — разносчиками заразных болезней, пренебрегают правилами гигиены и потому представляют опасность для здоровья; или их изображают распространителями вредных идей и привычек, которые обычно характерны для чернокнижников, или зловещих и кровавых культов, пропагандирующих моральную нечистоплотность и раз-
68
нузданность. Озлобленность переносится на все, что только может ассоциироваться с чужаками: на их манеру говорить, одеваться, на их религиозные обряды, образ их семейной жизни и даже запахи, которые, как кажется, источает их тело.
Рассматриваемая до сих пор практика разделения предполагала простую ситуацию, когда есть «мы», и нам надо защищаться от «них», от тех, кто пришел, чтобы остаться среди «нас», и не уйдет, даже если мы их попросим. Мы не обсуждали до сих пор то, как определяется принадлежность к каждой из групп, будто существуют единые стандарты для «нас» и для «них», т.е. твердо установленные и самоочевидные для нас стандарты, которыми мы пользуемся постоянно. Однако легко заметить, что такого рода простые ситуации и предельно четкие задачи, порождаемые ими, вряд ли можно обнаружить в современном обществе. Общество, в котором мы живем, — городское: люди живут вплотную друг к другу, много передвигаются; выполняя свои повседневные дела, они вступают в самые различные пространства, населенные самыми разными людьми, переезжают из одного города в другой или из одной части города в другую. В течение дня мы встречаем так много людей, что не можем узнать их всех. И в большинстве случаев мы не можем быть уверены — разделяют они наши стандарты или нет. На каждом шагу нас поражают новые картины и звуки, которые мы не вполне понимаем; хуже того, у нас едва хватает времени остановиться, подумать, постараться что-то как следует понять. Мир, в котором мы живем, представляется нам в основном населенным чужаками; это мир универсальной отчуждённости. Мы живём среди чужаков, для которых сами мы — чужаки. В таком мире нельзя чужаков запирать или держать в страхе, с ними надо уживаться.
Это не значит, что описанная выше практика разделения совсем не используется в новых условиях. Если взаимно отчужденные группы не могут быть полностью эффективно разделены, т.е. четко прочертить свои границы, то их взаимодействие все еще может быть ограничено (осуществляться нерегулярно и потому быть безобидным) практикой сегрегации, которая, однако, теперь должна быть изменена.
Для примера возьмем один из методов сегрегации, упоминавшийся ранее, — ношение четких, легко распознаваемых знаков групповой принадлежности. Такой указующий на принадлежность к группе внешний вид может быть предписан законом, и попытка «сойти за кого-нибудь другого» будет наказуема. Но этого можно
69
добиться и без помощи закона. На протяжение почти всей истории городов, как известно, только богатые и привилегированные люди могли позволить себе роскошное, хорошо сшитое платье; приобрести его можно было, как правило, лишь там, где оно было сшито (всегда согласно местным обычаям), а нездешних людей всегда можно было легко отличить по наряду, нищете или нелепости их внешнего вида. Теперь же сделать это не так просто. Относительно дешевые копии превосходных платьев производятся в огромных количествах, их могут приобрести и носить люди относительно небольшого достатка (и, что еще важнее, может носить чуть ли не каждый). Более того, эти копии настолько искусно сделаны, что их трудно отличить от оригинала, особенно на расстоянии. Из-за широкой доступности любой моды одежда практически утратила свою" традиционную функцию сегрегации, что, в свою очередь, изменило «социальный адрес» портняжных новшеств. Большинство из них теперь не связано с каким-либо определенным классом или группой; вскоре после своего появления они становятся доступными широкой публике. Мода также утратила свой локальный характер и стала поистине «экстерриториальной», или космополитичной. Одни и те же или почти неразличимые платья можно приобрести в местах, отдаленных друг от друга. Теперь одежда скорее скрывает, нежели демонстрирует, территориальное происхождение и мобильность своих владельцев. Это не значит, что внешний облик и одежда не разделяют людей; наоборот; одежда играет роль одного из первичных символических средств, используемых для публичного заявления человеком о своей референтной группе и о том качестве, в котором он хотел бы быть воспринят другими. Это равносильно тому, как если бы я, выбирая одеяние, заявил всему миру. «Вот к какому сорту людей я принадлежу, и будьте любезны воспринимать меня таким и обращаться со мной соответствующим образом». Следовательно, выбирая одежду, я могу давать любую информацию о себе, в том числе ложную; замаскировавшись, я могу выдать себя за кого-то другого, что мне не позволили бы сделать в другом случае; я могу, таким образом, не показывать (или, по крайней мере, скрыть до поры до времени) социально навязанный мне статус. Нельзя считать мое одеяние надежным показателем моей идентификации, как и я не могу верить в информативную ценность внешнего облика других людей. Они могут по своему желанию ввести меня в заблуждение: то надеть, то снять отделяемые от них символы, по которым я их различаю.
70
По мере того, как разделение по внешнему виду утрачивало свое практическое значение, возрастала роль разделения пoпространственному_признаку. Территория общего городского обитания постепенно подразделялась на районы, где вероятность встретить людей одного типа становилась гораздо выше, чем людей другого типа, или где маловероятно столкнуться с людьми определенного типа, и, таким образом, вероятность ошибиться в идентификации людей значительно уменьшается. Даже в специфических районах, куда доступ весьма ограничен, вы, находясь среди чужаков, можете с уверенностью утверждать, что все эти чужаки принадлежат примерно к одной категории людей (или, точнее, что большинство других категорий исключается). Разделение по районам приобретает саою ценность для ориентации по методуисключения, или выборочного и поэтому ограниченного доступа.
Ложа в театре, швейцар, телохранитель — все это явные символы и средства, применяемые в таких случаях. Их наличие предполагает, что только избранным доступно то место, которое они охраняют и контролируют. Критерии отбора бывают разные. В случае с ложей в театре самым важным критерием являются деньги, хотя билет на входе могут и не принять, если человек не удовлетворяет некоторым другим требованиям, например, приличный костюм или « не тот» цвет кожи. Швейцар и телохранитель определяют, «имеет ли право» данный человек войти туда, куда он захочет. Любой, кому разрешается войти, должен доказать свое право находиться внутри; причем весь груз доказательства ложится на того, кто хочет войти, а право решать, является ли это доказательство удовлетворительным, сосредоточено всецело в руках тех, кто контролирует вход. В результате установления права на вход создается ситуация, когда вход бывает заказан людям до тех пор, пока они остаются совершенными чужаками, т.е. до тех пор, пока они никак конкретно себя «не определяют». Сам акт идентификации превращает безликого члена «серой», беспорядочной массы чужаков в «конкретного человека», в «человека со своим лицом». Тем самым раздражающе непроницаемая завеса отчужденности хотя бы частично, но приподнимается, тогда как запретная территория, отгороженная охраняемыми воротами, совершенно свободна от чужаков. Каждый, вступающий на такую охраняемую территорию, может быть уверен, что все, кто на ней находится, до известной степени избавлены от присущей чужакам неопределенности и что кто-то позаботился, чтобы все «вхожие» были хотя бы в некоторых отношениях подобны друг другу и благодаря этому причис-
71
лены к одной категории. Тем самым неопределенность, сопряженная с пребыванием в обществе людей, «которые могут быть кем угодно», существенно уменьшается, хотя лишь на ограниченное время и в ограниченном пространстве.
Власть запрета на вход реализуется с той целью, чтобы обеспечить относительную "однородность, недвусмысленность некоторых избранных пространств внутри плотно населенного урбанизированного и безличного мира. Мы все используем эту власть, правда, в несравнимо меньших масштабах, когда, например, печемся о том, чтобы в контролируемое пространство, называемое нашим домом, допускались только те, кого мы каким бы то ни было образом можем опознать; когда отказываем в этом «совершенно чужим». И мы верим, что другие тоже используют свою власть в отношении нас и даже в большем масштабе. Таким образом, мы чувствуем себя относительно безопасно, в какие бы охраняемые пространства мы ни вступали. Как правило, день нашей жизни в городе делится на отрезки времени, проводимые в такого рода охраняемых пространствах и затрачиваемые на перемещения между ними (мы едем из дома на работу, в институт, в клуб, в ресторан или в концертный зал, а потом назад — домой). Между замкнутыми пространствами, обладающими способностью исключать «чужих», простирается обширная область свободного входа, где каждый, или почти каждый, — чужак. В целом мы стараемся сократить время, проводимое в таких промежуточных областях, до минимума, если не удастся исключить его совсем (например, переезжая из одного строго охраняемого места в другое, мы полностью изолируемся от них в наглухо захлопнутой ракушке своей машины).
Таким образом можно отчасти сгладить наиболее неприятные стороны жизни среди чужаков или хотя бы сделать их на время менее раздражающими, но вряд ли можно избавиться от них вовсе". Несмотря на самые искусные методы различения, мы не можем полностью избежать тех людей, кто близок к нам физически, но далек духовно, кто живет среди нас, как непрошенный гость, и чей приход и уход мы не можем контролировать. В социальном же пространстве (которого мы никак не можем избежать) мы ни на минуту не можем перестать замечать их. Эта бдительность обременительна для нас: она словно путы, сковывающие нашу свободу. Даже если мы уверены, что присутствие чужаков не таит в себе никакой опасности (хотя в этом мы никогда не можем быть твердо уверены), то все равно мы постоянно чувствуем на себе их при-
72
стальный, придирчивый, оценивающий взгляд, — в нашу «частную жизнь» вторгаются, нарушают ее обособленность. И если не наше тело, то наши достоинство, самооценка и даже самоидентификация становятся заложниками неких безликих людей, чьи суждения едва ли поддаются нашему влиянию. Что бы мы ни делали, мы постоянно должны заботиться о том, как наши действия скажутся на нашем образе, который складывается у наблюдателей. Пока мы находимся в поле их зрения, мы должны быть начеку. Все, что мы можем сделать, это не вызывать подозрения или, во всяком случае, не привлекать внимания.
Американский социолог Ирвинг Гофман считал общественное невнимание постоянно используемым приемом, делающим возможной нашу жизнь в городе среди чужаков. Общественное невнимание заключается в том, чтобы притвориться не видящим и не слышащим; или в том, чтобы по крайней мере принять позу не видящего и не слышащего и, что важнее всего, не интересующегося тем, что делают вокруг другие. Наиболее интригующее общественное невнимание проявляется в стремлении избежать контакта «с глазу на_глаз». (Встретиться глазами всегда означает пригласить к разговору более интимному, чем между чужими; это означает отказ от своего неотъемлемого права на анонимность, отступление или по крайней мере ограничение его и решимости оставаться невидимым для глаз другого). Старательное недопущение встречи глазами — это публичное заявление о том, что мы ничего особенного для себя не отмечаем, даже если случайно, нечаянно наш взгляд «скользнет» по другому человеку (в самом деле, нашему глазу позволено лишь «скользить», но не останавливаться и тем более не сосредотачиваться, если собеседник не готов к этому), Вообще не смотреть невозможно. Улицы любого города всегда запружены людьми, и для того чтобы просто перейти «отсюда» «туда», нужно, во избежание столкновения, внимательно смотреть впереди себя, на все, что движется или стоит на вашем пути. И хотя такое наблюдение неизбежно, оно должно быть ненавязчивым, не вызывающим беспокойства и настороженности у тех, на кого падает наш взгляд, смотреть, делая при этом вид, что вы не смотрите, — в этом суть общественного невнимания. Возьмем случаи из вашего повседневного опыта, когда вы заходите в переполненный магазин, проходите через зал ожидания на вокзале или просто идете по улице. Представьте себе все те мельчайшие движения, которые вы, не задумываясь, совершаете, чтобы благополучно пройти по тротуару или пересечь островки, разделяющие
73
витрины в магазине или на выставке; подумайте, как мало лиц вы запомнили из бесконечной вереницы встретившихся вам людей, как мало из них вы можете описать. И вы поразитесь, насколько хорошо вы освоили это трудное искусство «невнимания» — восприятия чужих как безликого фона, на котором происходят значительные для вас события. Осмотрительное, старательно поддерживаемое невнимание, с каким чужаки относятся друг к другу, очевидно, имеет непреходящую ценность для выживания в городских условиях. Но его последствия менее привлекательны. Приезжего из деревни или из малого городка зачастую поражает то,
что он расценивает как бессердечие и холодное безразличие большого города. Кажется, что людям ни до кого нет дела. Они быстро проходят мимо, не обращая внимания на других. Можно биться об заклад, что им точно так же не будет дела, даже если что-то ужасное произойдет с вами. Стена сдержанности, возможно, даже враждебности невидимо встает между вами и ними — стена, которую нет надежды преодолеть, дистанция, которую нет шансов сократить. Люди предельно близки физически, но духовно, умственно, морально им удается оставаться бесконечно далекими. Однако молчание, разделяющее их, дистанцирование, которое они используют как хитроумное и необходимое средство, способное уберечь их от опасности, ощущаемой в присутствии чужаков, похоже на угрозу. Затерявшись в толпе, человек чувствует себя бессильным, незначительным, одиноким и незащищенным. Безопасность.предполагающая охрану частной жизни от вторжений, оборачивается одиночеством. Или, скорее, наоборот, одиночество есть плата за обособленность. Существование среди чужаков – это искусство, имеющее столь же двусмысленную ценность, как и сами чужаки.
С одной стороны, «универсальная отчужденность» большого города означает свободу_от пагубного и досадного надзора и вмешательства других, которые в более узком и персонифицированном пространстве посчитали бы себя вправе любопытствовать и вмешиваться. Здесь можно оставаться в общественном месте, сохраняя в неприкосновенности свою обособленность. «Моральная неразличимость», достигаемая благодаря всеобщему распространению общественного невнимания, предоставляет немыслимые при других обстоятельствах степени свободы. До тех пор, пока повсеместно соблюдается неписаный закон общественного невнимания, по городу можно перемещаться относительно беспрепятственно. Таким образом накапливаются впечатления — новые, захватываю-
74
щие, интригующие. Городская среда — благодатная почва для интеллекта. Как заметил великий немецкий социолог Георг 3иммель, городская жизнь и абстрактное мышление созвучны и развиваются вместе: движение абстрактной мысли побуждается невероятным богатством опыта городской жизни, который невозможно охватить в его качественном многообразии, а способность оперировать общими понятиями и категориями — навык, без которого немыслимо выжить в городском окружении.
Это, так сказать, положительная сторона дела. Однако за нее приходится расплачиваться: никакая выгода не бывает без потерь. Вместе с обременительным любопытством со стороны других ис-
чезают и их сочувствие, готовность помочь. В опьяняющей толчее городской жизни обнаруживается холодное человеческое безразличие. Социальные отношения по 6ольшей части ограничиваются обменом, который, как мы видели, оставляет его участников безразличными и безучастными друг к другу. Денежные отношения, оценка взаимных услуг исключительно в денежном эквиваленте тесно связаны с рассудочными, бесстрастными отношениями в городе.
В этом процессе утрачиваемся этический (моральный) аспект человеческих отношений и обретает реальность самый широкий спектр человеческих отношений, лишенных моральной значимости; правилом становится поведение, свободное от моральных оценок.
Моральными человеческие отношения можно назвать в том случае, если они возникают, рождаются из чувства ответственности за благосостояние и благополучие другого человека. Во-первых, моральную ответственность отличает незаинтересованность. Она не навязывается мне ни страхом наказания, ни подсчетами личной выгоды, не проистекает из обязательств подписанного мною договора, которые я по закону должен выполнять, или из моих предположений о том, что данное лицо может предложить мне нечто ценное взамен моих усилий, что и делает его расположение «стоящим» для меня. Эта ответственность не зависит и от того, что делает другой человек, как и от того, что это за человек. Ответственность моральна, пока она полностью бескорыстна и безусловна: я несу ответственность за другого человека просто потому, что он, есть и тем самым может рассчитывать на мою ответственность. Bo-вторых, ответственность моральна постольку, поскольку я воспринимаю её как мою и только мою ответственность; её невозможно обсуждать или передать другому человеку. Я не могу
75
уговорить себя отказаться от этой ответственности, и никакая сила на земле не может освободить меня от нее. Ответственность за другого, причем за любого другого, человека просто потому, что это человек, и проистекающий из неё моральный порыв, заставляющий нас оказывать помощь и приходить на выручку, не требуют ни оправданий, ни подтверждений, ни легитимации.
Моральная близость в отличие от физической — простой и незамысловатой — основывается именно на такого рода ответственности. Но в ситуации «универсальной отчуждённости» физическая близость «очищается» от морального аспекта. Это означает, что теперь люди могут жить и действовать вблизи, рядом друг с другом, влиять на жизненные условия и благосостояние друг друга, не испытывая при этом никакой моральной близости, оставаясь невосприимчивыми к моральному значению своих поступков. Практическим следствием подобной ситуации является то, что они могут воздерживаться от поступков, диктуемых моральной ответственностью, и предпринимать действия, ею не поощряемые или отвергаемые. Благодаря правилам общественного невнимания чужаков не воспринимают как врагов, и они, как правило, избегают участи врага — не становятся мишенью враждебности и агрессии. И все же подобно врагам чужаки (а это относится и к нам самим, поскольку все мы являемся частью «универсальной отчужденности») лишены той защиты, которую может обеспечить только моральная близость. Лишь один маленький шаг отделяет общественное невнимание от морального безразличия, бессердечия и пренебрежения нуждами других.
76
studfiles.net
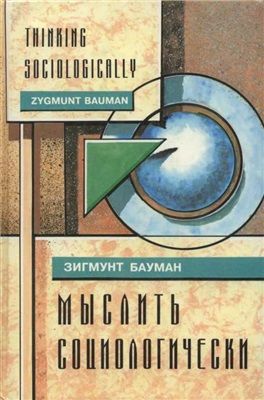
Книга написана известным британским социологом Зигмунтом Бауманом. В ней автор стремится дать ответ на вопросы, как социология получает знания об обществе и чем оправдано само существование социологии в обществе. Главная цель книги - показать, что социологическое мышление способно стать силой свободного человека.
Книга предназначена для студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также всех тех, кто интересуется социологическими проблемами общества.
Содержание:
Учебная литература по гуманитарным и социальным дисциплинам для высшей школы России готовится и издается при содействии Института "Открытое общество" в рамках программы "Высшее образование".
Редакционный совет:
В. И. Бахмин, Я. М. Бергер, Е. Ю. Гениева, Г. Г. Дилигенский, В. Д. Шадриков
Перевод с английского:
С. П. Баньковской, А. Ф. Филиппова
У социологии славная история. Немногие другие дисциплины могут гордиться такой историей. И далеко не везде эта история славнее польской и российской истории социологии. В темную годину социология всегда была желанным лучом света…
Действительность, которую иные представляют как ниспосланную нам с небес или предписанную сверхчеловеческим разумом истории, социология видела как на самом деле временное, неоконченное творение вполне земных сил - человеческого ума и рук, иногда искусных, иногда не очень, а иногда и вовсе ни на что не способных. Как и сами люди, эта действительность не свободна от ошибок и отнюдь не безгрешна, но прелесть ее заключается в том, что именно люди, подумав да поднапрягшись, могут переделать ее, заменив чем-то лучшим или хотя бы более сносным.
В годы подавляющего единомыслия, когда слаженный газетный хор заглушал любой самостоятельный голос, социология стала своеобразным убежищем для общественного мнения - этого рассадника инакомыслия. Для официальных же блюстителей порядка она казалась властью власть неимущих, даже если кто-то из социологов и клялся им в своем верноподданничестве.
Во мраке и спичка ярко светит. В тот период полезность социологических исследований была, так сказать, гарантирована заранее, слава этой науке давалась легко, хотя и не всегда потому, что она априори обладает огромным гуманистическим потенциалом. Услуги социологии представлялись чем-то само собой разумеющимся в ситуации, когда, как говорят, все перекрестки ярко освещены. А вот об истинной пользе, которую могут принести людям, блуждающим в потемках, социологи (и только они), ослепленные множеством прожекторов, в те времена узнать так и не пришлось.
В России, как и в Польше, наступили новые времена, и другие проблемы стоят сегодня перед людьми. Не всегда они легче прежних, но всегда новые, требующие нового осмысления и новых навыков их решения. Свобода самоопределения дается нелегко и не всегда оказывается приятнее принуждения, но страдания свободных людей - это нечто совсем иное, нежели терпение рабов или крепостных. Может ли социология помочь в свободной жизни? Я убежден, что может. Кстати, эта книга и написана с той целью, чтобы показать: социологическое мышление способно стать силой свободного человека, о чем мы прежде даже не подозревали.
Если читатель найдет в книге отголоски собственных размышлений, терзаний, поисков, не вполне осознанных переживаний, встретит те же настойчиво повторяемые вопросы, то я могу считать, что задача, которую я ставил перед собой, выполнена. И себе, и вам, дорогие читатели, я искренне желаю, чтобы так оно и случилось.
Зигмунт Бауман, 14 сентября 1996 г.
По-разному можно представлять себе социологию. Самый простой способ - вообразить длинный ряд библиотечных полок, до отказа забитых книгами. В названии либо в подзаголовке, или хотя бы в оглавлении всех книг встречается слово "социология" (именно поэтому библиотекарь поместил их в один ряд). На книгах - имена авторов, которые называют себя социологами, т. е. являются социологами по своей официальной должности как преподаватели или исследователи. Воображая себе эти книги и их авторов, можно представить определенную совокупность знаний, накопленных за долгие годы исследований и преподавания социологии. Таким образом, можно думать о социологии как о связующей традиции - определенной совокупности информации, которую каждый новообращенный в эту науку должен вобрать в себя, переварить и усвоить независимо от того, хочет он стать социологом-практиком или просто желает познакомиться с тем, что предлагает социология. А еще лучше можно представить себе социологию как нескончаемое число новообращенных - полки все время пополняются новыми книгами. Тогда социология - это непрерывная активность: пытливый интерес, постоянная проверка полученных знаний в новом опыте, непрекращающееся пополнение накопленного знания и его видоизменение в этом процессе.
Такое представление о социологии кажется вполне естественным и очевидным. В конце концов, именно так мы склонны отвечать на любой вопрос типа: "Что такое X?" Если, например, нас спросят: "Что такое лев?", то мы сразу покажем пальцем на клетку с определенным животным в зоопарке или на изображение льва на картинке в книжке. Или, когда иностранец спрашивает: "Что такое карандаш?", мы достаем из кармана определенный предмет и показываем его. В том и другом случае мы обнаруживаем связь между определенным словом и столь же определенным предметом и указываем на нее. Мы используем слова, соотносящиеся с предметами, как замену этих предметов: каждое слово отсылает нас к специфическому предмету, будь то животное или пишущее орудие. Нахождение предмета, "представляемого" нам с помощью слова, о котором спрашивают (т. е. нахождение референта слова), и является правильным и точным ответом на поставленный вопрос. Как только я нашел такой ответ, я знаю, как пользоваться до сих пор не знакомым мне словом: в соотношении с чем, в какой связи и при каких условиях. Ответ такого рода, о котором идет речь, учит меня только одному - как использовать данное слово.
Но вот чего мне не дает ответ на такого рода вопрос, так это знаний о самом предмете - о том предмете, на который мне указали как на референт интересующего меня слова. Я знаю только, как выглядит предмет, так что впоследствии я узнаю его в качестве предмета, вместо которого выступает теперь слово. Следовательно, существуют пределы - и довольно жесткие - знания, которому меня может научить метод "указывания пальцем". Если я обнаружу, какой именно предмет соотносится с названным словом, то мне, вероятно, сразу же захочется задать и следующие вопросы: "В чем особенность данного предмета?", "Чем он отличается от других предметов и насколько, почему требует специального названия?" - Это лев, а не тигр. Это карандаш, а не авторучка. Если называть данное животное львом правильно, а тигром - неправильно, то должно быть нечто такое, что есть у львов и чего нет у тигров (это нечто и делает львов тем, чем тигры не являются). Должно быть какое-то различие, отделяющее львов от тигров. И только исследовав это различие, мы сможем узнать, кто такие на самом деле львы, а такое знание отлично от простого знания о предмете, заменяемом словом "лев". Вот почему мы не можем быть полностью удовлетворены нашим первоначальным ответом на вопрос: "Что такое социология?"
Продолжим наши рассуждения. Удовлетворившись тем, что за словом "социология" стоит определенная совокупность знания и определенного рода практика, использующая и пополняющая это знание, мы должны теперь задаться вопросами о самих этих знаниях и практике: "Что в них есть такого, что позволяет считать их именно "социологическими"?", "Что отличает эту совокупность знаний от других его совокупностей и, соответственно, практику, продуцирующую это знание, от других ее видов?".
profilib.net
Реферат на тему:
Зигмунд Бауман
Зигмунд Бауман (польск. Zygmunt Bauman; 19 ноября 1925, Познань, Польша) — английский социолог польского происхождения. Профессор Университета Лидса; известен благодаря своим исследованиям Холокоста и постмодернистского консумеризма. В его сферу научных интересов входят глобализация, антиглобализм/альтерглобализм, модерн, постмодерн, модернити.
Родился в семье польских евреев. В самом начале Второй мировой войны (1939), спасаясь от оккупировавших Польшу немецких нацистов, семья Бауманов уехала в СССР. Молодой Зигмунд, тогда убеждённый коммунист, ушёл добровольцем в просоветскую Свободную Польскую Армию Polish First Army. Принимал участие в сражении при Кольберге (ныне Колобжег) и Берлинской операции, за что был награждён Военным крестом за доблесть в мае 1945. Дослужившись до чина капитана, в качестве политического комиссара продолжил под псевдонимом «товарищ Степан» службу в органах государственной безопасности (KBW) Польской народной республики.
Параллельно со службой Бауман изучал социологию в Варшавской Академии социальных наук — польском аналоге Высшей партийной школы. Поскольку социология как специальность была на время исключена из учебных планов за свою «буржуазность», в дальнейшем он продолжил свою учёбу на философском факультете Варшавского университета. Среди его учителей были ведущие социальные философы Польши Станислав Оссовский и Юлиан Хохфёльд.
Хотя в KBW Бауман дошёл до майора, но его достижения были внезапно поставлены под угрозу в 1953. Его отец, придерживавшийся сионистских взглядов, связался с израильским посольством по поводу возможности эмиграции в Израиль. Несмотря на то, что Зигмунд был последовательным противником сионизма, он был уволен из госбезопасности, что, впрочем, не помешало ему закончить учёбу в университете. С 1954 по 1968 он постоянно работает в Варшавском университете.
Во время своего выезда в Лондонскую школу экономики Бауман под научным руководством Роберта Макензи закончил работу над подробным исследованием истории британского социалистического движения, вышедшим отдельной книгой в 1959 на польском языке (в 1972 дополненное и переработанное издание было опубликовано на английском). Это была первая книга Баумана; за ней последовали «Социология на каждый день» («Socjologia na co dzień», 1964; впоследствии она стала основой для выпущенного в 1990 англоязычного труда «Мысля по-социологически») и ряд других книг, рассчитанных как на специалистов, так и на широкую аудиторию. В них автор выступает с марксистских позиций, но не в русле официальной идеологии стран восточного блока, а на основании марксизма Антонио Грамши с примесью «философии жизни» в интерпретации Георга Зиммеля. В силу своей близости к критической теории западного марксизма он так и не получил профессорское звание, несмотря на то, что Бауман де-факто исполнял обязанности Юлиана Хохфёльда после назначения последнего заместителем директора парижского Департамента социальных наук ЮНЕСКО в 1962.
В условиях усилившегося политического давления в результате антисемитской кампании министра-популиста Мечислава Мочара Бауман отказался от членства в правящей Польской объединённой рабочей партии в январе 1968. В конечном итоге, курс Мочара вылился в антисемитскую чистку марта 1968, когда большинство критически мыслящих интеллектуалов еврейской национальности были выдворены из страны. Бауман, уволенный из университета, был вынужден отказаться от польского гражданства, чтобы выехать из Польши. Первоначально он эмигрировал в Израиль и некоторое время преподавал в Университете Тель-Авива. С 1971 по 1990 профессор социологии в Университете Лидса. Работая в Великобритании, Зигмунд Бауман, уже в качестве мыслителя-постмодерниста, обрёл мировое признание, оказывая значительное влияние на разнообразных авторов от новых левых до либералов. С конца 1990-ых он является одним из признанных теоретиков альтерглобалистского движения.
Бауман женат на писательнице Янине Бауман и имеет трёх дочерей, включая художницу Лидию Бауман и архитектора Ирену Бауман.
Премии: Европейская премия Амальфи по социологии и социальным наукам (1990), Премия Адорно (1998).
21 апреля 2011 года Зигмунт Бауман прочитал лекцию в Москве. При поддержке Фонда поддержки гражданских инициатив (директор Михаил Ремизов) Бауман приехал в Россию по приглашению проекта "Публичные лекции "Полит.ру" .
wreferat.baza-referat.ru